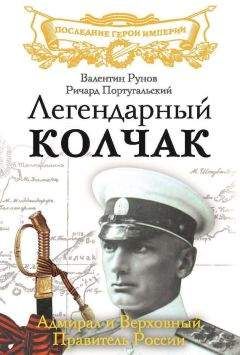Валентин Гнатюк - Святослав. Болгария
– Никакая темь не поможет, – угрюмо буркнул Васюта, – греки всё время начеку, переловят, как щенят. Лучше уж с греками договариваться, идти с ними на перемирие…
– Погибнет, – помолчав, сказал с тяжким вздохом Святослав, – погибнет слава русская, если ныне устрашимся смерти! Кому нужна жизнь, спасённая трусливым бегством? Другие народы станут нас попросту презирать. Выбор только один: либо мы останемся достойными славы предков и победим греков, как одолели многие другие племена и народы, либо падём с честию, совершив дела великие! Завтра Перунов день, и сам бог наш воинский, что всегда даровал победу, поможет нам! Слава Перуну!
– Слава! – громыхнули военачальники, вскакивая с мест. Пламенная речь князя возымела, как всегда, чудное действие. В очах полутемников и тысяцких горел такой же неукротимый огонь, как и в очах Святослава.
– Стройте полки на утреннюю молитву и поверку! – велел князь. – Пошлите к Могуну на Мольбище, пусть готовит завтра утреннюю службу, полки придут на благословение перед битвой…
Рано утром дружина выстроилась на главной городской площади. Все уже знали, что нынче состоится решительная битва с врагом.
После переклички военачальники повели полки на молитву. На Мольбище Переяславский Могун с кудесниками уже творили требы богам.
Подойдя к выстроившимся полкам, Могун громким и сильным голосом начал петь молитву Перуну:
К тебе, Боже наш, обращаемся,
Ты бессмертья льёшь чашу полную,
На врагов с небес навергаешься,
Поражая их мечом-молнией.
Воины дружно подхватили:
Тебе молимся, Тебе веруем,
Ты, Перуне, мечом божественным
Оградишь нас от всяких недругов
Во все дни Твоего пришествия!
Песня лилась и ширилась, и каждый воин понимал, что нынче предстоит смертный бой. Но не было страха в сердцах русских пардусов, а песня наполняла их души отвагой и мужеством.
Потом Святослав коротко сказал о предстоящей задаче: борзо напасть на врага, ошеломить его натиском и победить в решающей битве.
– Бейте, братья, врага дерзостью, ибо дерзость и борзость есть наивысшие силы воинской яри. Соколом нападайте на противников и когтите, не давайте опомниться, чтобы они силу нашу не перечли. А смерть на поле боя с мечом в руке прекрасней позора и унижения! Вперёд, за Русь, с нами Матерь-Сва и Перун! – горячо рёк Святослав, всё более и более возжигая в себе эту самую святую ярь, которая одна осталась надеждой для всех воинов, что сейчас шагнут за черту смерти. Когда узрели ближние к князю темники печать Перунову на его челе, то и сами, подобно сухой поросли в знойной степи, стали возгораться той праведной силой.
Рядом с князем стал Переяславский Могун и молвил громким гласом, чтоб слышал каждый воин:
– Я нынче тоже пойду с вами в сию для многих из нас последнюю сечу. – Он подождал, пока по рядам дружины прошёл шум, будто свежий ветер по дунайской волне. – Пойду, потому как нет у нас права проиграть битву сегодня. Погибнуть можем, но проиграть нет! Иначе разрушат алчные визанцы и Болгарию, и Переяславец наш, разорят и в рабство продадут землепашцев и рукомысленников, а потом двинутся далее на Русь Киевскую. Потому нет нам пути назад, лепше, как князь молвил, костьми лечь в землю Болгарскую, но и греков коварных истребить нещадно! – закончил свою краткую, но вескую речь Могун.
И опять по рядам прошёл шелест удивления, потому что рядом с Могуном стал облачённый в ризы отец Гавриил:
– И я иду с вами, великие и могучие воины, потому что ваше поражение – это рабство Болгарии под тяжкой пятой Империи, которая может только грабить и убивать и не ведает истинной Христовой любви, сострадания Божьего и благости души живой. Они, – священник указал десницей за стены града, – не христиане, хотя именем сим прикрываются, как волк овечьей шкурой. Потому я, отец Гавриил, иду с вами в сечу не только как христианский священник, но и как болгарин Стоян Петкович.
Подле Могуна стоял большой медный чан с водой.
Сотворив привычную молитву киевским богам, призвав их сохранить русских воинов и навлечь погибель на врагов, Могун сказал:
– Чтобы воевать с железными воями, надо омыть мечи Перуновой водой.
– А что за вода? – вполголоса спросил Ярослав.
– Та вода сотворяется Перуновой молнией, которая падает в реку или озеро и наделяет воду особой силой, – шёпотом отвечал ему Младобор.
– Во время последней грозы молния ударила в Голубиное озеро, что на окраине града, – в подтверждение его слов произнёс Могун. – Мы ночью при свете Макоши и с молитвой Перуну набрали священной воды и привезли сюда. – Могун указал на чан. – Пусть теперь каждый из воинов, проходя мимо, окунёт свой меч в Перунову воду, которая даст русскому железу силу противостоять железу греческому! Да хранит вас Великий Триглав! – И Могун сотворил рукой широкое коло, благословляя собравшихся.
Святославово войско бодро с песней выступило из града сразу из двоих ворот – пехота появилась из западных ворот, напротив которых стоял Варда Склир со своей восточной этерией. А из восточных ворот, охраняемых стратопедархом Петром с болгарским ополчением, неожиданно появилась русская конница. Чтобы усилить остатки своего воинства, повелел князь сесть на коней даже морской тьме Притыки, хоть тем привычней было биться в пешем строю, по варяжскому устою. Собрали всех коней, какие остались в граде, и тех, чьи всадники были убиты или ранены, а ещё тех, что успели умыкнуть в ночной вылазке у зазевавшихся византийских коноводов.
Князь велел запереть городские ворота, чтобы никто и не помыслил о бегстве в Доростол. Путь был только в одну сторону, где ждала победа или смерть.
Греки, глядя на выходящих из града русов и болгар, никак не могли взять в толк: как могут осаждённые уже около трёх месяцев, измождённые голодом и многими боями, в общем-то обречённые на верную смерть люди петь песни, идя на свою погибель? Но ещё более они подивились, когда русы и болгары затворили за собой крепостные ворота. Только самые опытные и бывалые воины поняли всё, они нахмурились и приготовились к смерти, крестясь истово и читая про себя сокровенные молитвы.
С той же Перуновой печатью на челе русы храбро начали битву и сражались с таким упорством, что привели греков в замешательство: откуда у ослабленных россов и болгар взялось столько сил?! Почему те же болгары, что сражаются нынче на стороне Империи, и близко не могут сравниться в отваге и стойкости с теми, что сейчас плеч-о-плеч идут со Святославом?! Византийцы вообще предполагали, что русского войска, как такового, уже не существует. Есть умирающие медленной смертью люди, полуобезумевшие от голода в городе, в котором не осталось даже ворон. Ещё чуток – и русы с болгарами откроют врата, сдавшись на милость победителя. И вдруг – жесточайшая схватка, в которой «обречённые», кажется, вовсе не ведают устали. Греки же от зноя и жажды к полудню стали выбиваться из сил и отступать. Однако и русам понадобилась передышка. Они не стали преследовать неприятеля, и войска на время остановили битву.
Варда Склир, следивший, как расходятся на свои места его воины, недовольно оглянулся на голос старшего стратигоса Каридиса, который подошёл, как всегда, незаметно. Патрикий до сих пор не мог простить ему гибели своих лучших воинов-гоплитов и опытных синодиков, попавших в засаду у восточных ворот.
– Патрикий, я хочу предложить тебе нечто, что поможет одолеть скифов, – молвил главный трапезит.
– Уж не собираешься ли ты, Каридис, снова ночью открыть ворота Дристра? – откровенно съязвил Варда.
– Нет, это касается не ворот, и сделать это нужно сейчас, как только снова сойдутся наши и вражеские воины, – будто не замечая колкости Варды, спокойно ответил трапезит.
Битва в самом деле скоро возобновилась. Притыка, которого по его морской тьме из Киммерийского Боспора многие в войске стали называть просто Кимром, снова был во главе своей, как он шутил, «морской конницы». Конечно, его воинам непривычно было сражаться верхом, в умении управлять конём в бою они уступали опытным византийским конникам, но зато перекрывали сей недостаток отвагой и необычайной решительностью. Однако в возникшей после перерыва сече что-то изменилось.
Когда на правое крыло пехоты крепко насели конные гоплиты, Притыка ринулся туда со своими конными Кимрами. Вражьи воины, едва скрестив с ними копья и мечи, подались назад с возгласами «Икмор, Икмор…», так они по-своему переиначили прозвище темника. Притыка как нож в масло стал входить в строй железных гоплитов и не заметил, как те же гоплиты двумя клиньями принялись отсекать его от основной конницы. Когда темник понял, что попал в хорошо расставленную западню, он закричал своим громовым гласом содругам, чтобы пробивались назад, но было уже поздно. Одна часть железных катафрактов окружила их плотным коло, а другая, соединив клинья, навалилась на оставшихся без темника россов. Сеча была жестокой. Зажатый в железном коло Притыка рубился, как никогда, без устали крушил своим тяжёлым, но быстрым в его могучей руке мечом греков налево и направо. И тогда сквозь свалку к нему пробился равный ему по силе греческий богатырь по имени Анемас в окружении нескольких «Бессмертных». В мелькании булатных клинков уже было не разобрать, чей меч первым достал руса. Он стал терять силы, и Анемас, изловчившись, в один миг отделил голову раненого богатыря от тела.