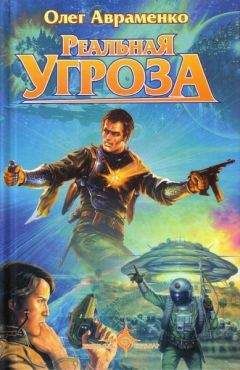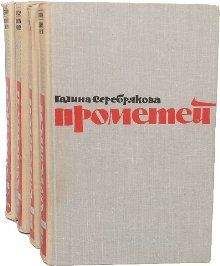Галина Серебрякова - Похищение огня. Книга 1
Госпожа Ламартин, женщина неопределенного возраста и внешности, в пышном платье цвета бордоского вина, кивнув приветливо Толстому, снова обратилась к нескольким дамам, сидевшим вокруг нее. Все они курили, громко смеялись, перебивали друг друга и вели себя, по мнению Толстого, крайне бесцеремонно и даже неприлично. Он терпеть не мог женщин, которые чувствовали себя равными с мужчинами.
Было в салоне также несколько журналистов, споривших о том, кто будет президентом. Какой-то юноша о взлохмаченной прической сообщил Якову Николаевичу, что пишет стихи, и тут же начал читать их приглушенным голосом. Стихи начинались и кончались словами) «Свобода, равенство и братство».
Толстой, найдя их про себя бездарными, все же принялся расхваливать поэта.
Госпожа Ламартин сказала, что министр опаздывает, и, меланхолически закатив глаза, добавила:
— Мой муж жертвует собой ради блага родины. Он укротил, как мог, ураган опасных народных страстей. Но вчера он сказал мне, что заготовил завещание. Увы, завтрашний день в тумане. Каждая минута его жизни — подвиг и может оказаться последней...
— Какой героизм! - произнес глухо поэт.
— Достойное служение долгу,— добавил кто-то из журналистов.
— К несчастью, поэзия первых дней свободы сменилась жестокой прозой,— добавила госпожа Ламартин, опустив глаза.
В салоне воцарилось приличествующее сказанному молчание. В это время в комнату вошли двое мужчин. В высоком сухощавом человеке с презрительным взглядом и узким ртом Толстой узнал Ламартина. Коренастого военного он видел в первый раз.
— Разреши представить тебе,— обратился Ламартин к жене, а затем к гостям,— и всем вам надежду правительства — генерала Эжена Кавеньяка.
Услыхав это, журналисты всполошились.
— Скажите, гражданин Кавеньяк, возьмете ли вы портфель военного министра? — наперебой стали спрашивать они алжирского генерал-губернатора.
— Положение поенного министра — одно из самых ложных в современной Франции,— уклончиво ответил Кавеньяк.— На словах он располагает всей армией, в действительности у него нет под рукой ни одного батальона. Что сможет он сделать в случае беспорядков и волнений, которые грозят со всех сторон нашей родине? Бонапартисты, карлисты, республиканцы, наконец, бешеные коммунисты готовы схватиться не на живот, а на смерть друг с другом. Если Временное правительство вернет войска в Париж и гарнизон столицы будет достаточно силен, можно будет решать вопрос, который вас интересует. Я человек военный. Не рассуждать, а действовать, во имя порядка и процветания нации — мое правило. Мои зуавы, может быть, еще понадобятся. А пока пусть безобразничают горе-командиры Национальной гвардии и префект полиции Коссидьер.
Одна из дам, услыхав имя Коссидьера, живо сказала:
— Этот опасный демагог носит за поясом два пистолета.
— Вы правы,— заметил Ламартин,— на днях в таком виде он явился ко мне на прием. Я спросил гражданина Коссидьера: «Зачем вы носите при себе пистолеты? Разве вы боитесь за себя?» — «Нет,— ответил Коссидьер,— но я хочу быть наготове, чтобы ответить тому, кто окажется достаточно смелым и потребует моей отставки».— «Никто не думает требовать ее от вас, но когда мы захотим вас сместить, то ношлем отрешение от должности по почте»,— «Я этого не боюсь,— сказал начальник полиции,— ни один почтальон не осмелится мне его принести, а если бы такой нашелся, он был бы так встречен, что уж другой не посмел бы явиться». Как вам нравится такой разговор, гражданин Кавеньяк?
— Значит, я более чем прав,— ответил надменно генерал.— Мои алжирские войска действительно нужны в Париже.
— Ужасно! — патетически произнесла госпожа Ламартин,— День ото дня жизнь становится невыносимее. Мэр Парижа восстановил систему гражданских карточек, какие были в первую революцию. Я, жена министра, не могу войти в ратушу к мужу, не предъявив такой карточки. Еще одна пародия на тысяча семьсот девяносто третий год. Какие-то оборванцы часовые останавливают меня на лестнице раз десять подряд и кричат: «Твоя карточка, гражданка!» Я показываю ее всюду: в кулуарах, в залах, вплоть до самого кабинета. А бываю я у мужа зачастую лишь несколько минут в неделю. Он так занят, что ночует в ратуше. Представьте, на днях, когда я поднималась по лестнице, какой-то часовой в отрепьях крикнул снизу другому: «Пропустите временную жену Ламартина».
Все весело рассмеялись.
— Итак, никто из видных генералов не желает принять портфель военного министра? — спросил Толстой.
— Да, и пока профессор Араго, едва различающий виды оружия, вынужден руководить военным министерством.
— Сегодня был бурный день в столице,— снова начал Толстой, обратившись к Ламартину.— Не думаете ли вы, что красные повторят девяносто третий год, с той только разницей, что победят, а не погибнут под ножом заслуженной ими гильотины? Каковы ваши взгляды на этот счет, господин министр?
— Убеждения политика подобны волнам, гонимым ветром,— чуть улыбнулся Ламартин.— Если они несут его к берегу, он может порой сесть на мель, но только на время. Движение вод снова вынесет его на простор океана.
— Однако вы скептик!
— Я больше нежели скептик, в политике я атеист.
— Это свойство важно также и для дипломата.
— Ваш царь — последовательнейший из людей.
— Да, надеюсь, среди разбушевавшейся революционной стихии великая Россия будет единственным оплотом порядка!
Толстой склонил голову. Когда он поднял ее, на лице его снова застыло благоговейное восхищение Ламартином, которое с первой минуты пленило честолюбивого и самодовольного министра.
— Но как все-таки удается вам ладить с крайними демагогами, этими красными бешеными, которые готовы взорвать ратушу и, может быть, даже обезглавить кое-кого из членов Временного правительства? — спросил, немного помолчав, вкрадчиво Толстой.
— О, это — отношения между громоотводом и электрической искрой,— очень громко произнес Ламартин.
Журналисты, все как один, вписали это удивительное признание в свои записные книжки.
Генерал Кавеньяк, сославшись на скорый отъезд в Алжир, сделал общий поклон и покинул дом министра иностранных дел.
— Скажите, вы не знаете, кто такой Кавеньяк? Я имею в виду его происхождение,— спросил Толстой поэта, который, помимо того что писал стихи, имел бакалейную лавку.
— Извольте, я кое-что знаю. Ему уже сорок шесть лет, хотя он, как все военные, выглядит моложе. У него репутация весьма посредственного командира. Более того, его считают трусом. Скажу вам по секрету, когда узнали, что он назначен генерал-губернатором Алжира, какие-то шутники из города Орана прислали ему ящик, в котором лежало женское платье и веретено. О нем говорят, что это корова в львиной шкуре, хотя он сын террориста и брат заговорщика. Вы, верно, помните покойного Годфруа Кавеньяка? Он умер в сорок пятом году. Благодаря имени отца и брата, республиканца, боровшегося с Карлом Десятым и Луи-Филиппом, генерал Кавеньяк приобрел доверие нынешнего правительства.
— Мне кажется, однако, этот Кавеньяк еще покажет себя скорее львом в обличье коровы. Я не заметил, чтобы он сочувствовал красным,— тихо произнес Толстой.
Госпожа Ламартин пригласила гостей в столовую.
— Субботний вечер,— говорила она радостно,— и воскресное утро — единственные часы, когда муж находится дома.
За скромным ужином завязалась общая беседа, и Ламартин принялся рассказывать о тех заботах, которые постоянно причиняют ему иноземцы-изгнанники. Толстой тотчас же завел разговор о поляках.
— Они, как и ирландцы и немцы, очень назойливы,— согласился хозяин дома и сообщил, что утром ему пришлось принять их депутацию. Поляки требовали, чтобы республиканское правительство дало им средства для эмиграции из Франции и проезда через Германию в Польшу, а также снабдило их оружием из государственного арсенала.— Я ответил,— сказал Ламартин, глядя прямо в лицо Толстому,— что мы дадим им денег и не станем вмешиваться в то, на что они их потратят. Но снабдить их оружием не можем, так как это противоречило бы нашему манифесту о невмешательстве в дела других государств. Будьте уверены, я не отступил от своего решения даже тогда, когда они разразились бранью и утверждали, что я продолжаю политику унижения народов, которая уже восемнадцать лет позорит Францию. Эти буяны грозили мне,— гневно воскликнул Ламартин,— что, если правительство республики не поступит должным образом, они присоединятся к тем, кого считают честными патриотами, кто смотрит на поляков как на братьев, и свергнут пас.
Вспомнив угрозу поляков, Ламартин еще более повысил голос и встал, раздраженно жестикулируя. Однако все это было напускное. Министр иностранных дел Франции отлично знал, что Толстой сообщит в Петербург то, что сейчас услышал о польских изгнанниках. Поэтому Ламартин сводил все к общим фразам о человеколюбии, справедливости, в то время как подлинными мотивами помощи польским деятелям было желание ущемить интересы царской России. Помогая польскому национально-освободительному движению, французское правительство хотело тем самым ослабить политические и военные позиции Николая I.