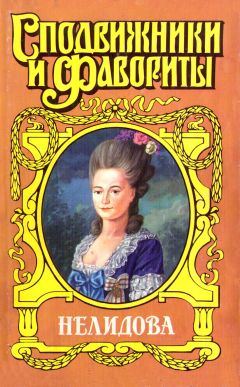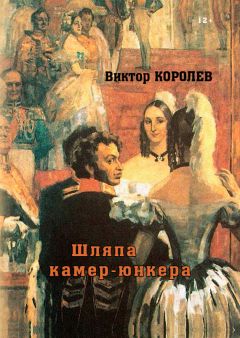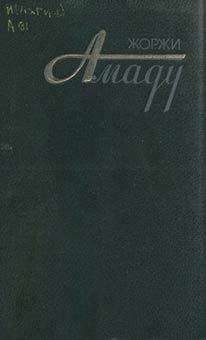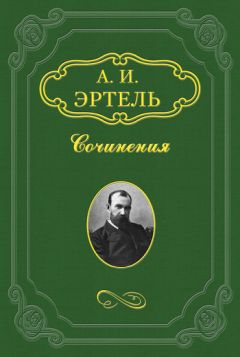Алла Панова - Миг власти московского князя
— Ишь ты, — удовлетворенно заметил князь.
— Он уж вовсю воюет. Со своими, — как‑то невесело улыбнулся сотник. — Всем от него достается и за дело, и за безделицу малую. Я сам тому послухом был, как он кому‑то так выговаривал, что со двора слыхать было, — мол, нельзя ему захворать, как сразу все про дело забыли, едва хозяйство по миру не пустили.
— Это уж чересчур! — удивился слушатель.
— Да–да, так и говорил, — кивнул рассказчик и продолжил: — Мне даже Настасья Петровна пожаловалась. Мол, как на ноги встал, так за хозяйство свое пуще прежнего спрашивает со всех. Он и супруге своей попенял…
— Ей‑то за что? — удивленно поднял бровь князь.
— Говорит, что надо было не за ним смотреть, а за людьми дворовыми, за челядью. Он, мол, и сам бы на ноги поднялся, а вот ежели бы его Бог прибрал, то она бы с детьми почитай что на пустоши осталась. Дескать, за то время, что он хворал, хозяйство справное на пепелище стало походить…
— Это он что‑то и впрямь палку перегнул. Видно, хочет всем показать, что без него они никуда! — сообразив, в чем причина такого поведения посадника, пояснил князь. — Все, мол, в доме на нем держится.
— Так‑то оно так, только вот каково это его близким слышать? Все у них как раньше было, так и теперь справно. Да и нельзя крепкое хозяйство за столь малый срок в негодность привести. Почитай что все домашние ныне в обиде на Василь Алексича, а он того, кажется, не видит. Знай себе бушует, аки море–окиян.
— Что ж, и ты его не смог угомонить? — удивился князь. — Али даже не пробовал?
— Да разве ж его угомонишь, — с обидой произнес сотник, — правду сказать, он при мне много тише стал. Видать, притомился. Сел на лавку да принялся жаловаться на свое семейство.
— А ты что? Неужто в их защиту слова не сказал? — недоверчиво посмотрел на сотника Михаил Ярославич.
— Как же не сказал! Разве ж можно невинных без защиты оставить? И так и этак уговаривал. Вроде стихла буря, — устало проговорил тот.
— Потому и усадьбу покинул? — поинтересовался князь.
— И потому, но еще причина была, — кивнул собеседник и, перехватив вопросительный взгляд, объяснил: — К нему нарочитый какой‑то пожаловал. Навестить, мол. Поговорить со старым знакомым да гостинец хворому передать. Я уж уходил, да в сенях с гостем столкнулся.
— Это кто ж такой будет? — спросил князь, заинтересовавшись личностью посетителя.
— Я его и знать не знаю… — проговорил Василько и, немного подумав, добавил: — Только рожа у него какая‑то хитрая. И глазки… злые… Так и бегают, будто ищут чего.
— Кто ж это такой? — снова проговорил задумчиво князь, повернувшись назад и удивленно посмотрев на усадьбу посадника, словно хотел разглядеть, что за человек сейчас там находится.
— Эх, запамятовал, княже! — хлопнул себя по лбу сотник. — Я ведь слышал, как посадник гостя величал, когда тот на порог горницы ступил. Проходи, мол, Лука.
«Вот те раз, — подумал князь, — не тот ли это Лука, что с жалобой на посадника к Егору Тимофеевичу обращался, грозился до великого князя дойти, а тут, вишь, сам проведать хворого решил. Надо ж, какой жалостливый! Неужто он?»
Михаил Ярославич еще раз повернулся, посмотрел на крепкие тесовые ворота и сказал вслух:
— Что ж, не всех пока я в Москве знаю, будет время, и с этим… как его… Лукой знакомство сведу. — Потом, чтобы уйти от неприятных мыслей, спросил сотника: — А что, Василько, неужто посадник и дочкой своей недоволен?
— Так, говорю, всеми, — сказал сотник, покраснев.
— Она‑то чем не угодила? Ведь, кажется, ангел бестелесный, а не девица? — не унимался князь и, задав свой вопрос, внимательно посмотрел на разрумянившееся лицо собеседника.
— Ангел. Точно, князь, ангел, — ответил тот с такой нежностью в голосе, что у князя заныло сердце. — Но и для Веры, для этой души невинной, вину отец нашел. И нашел ведь в чем упрекнуть! Буркнул, что, мол, матери помогать надо было, а не поклоны в церкви класть. Бог, мол, сам видит, кого прибрать к себе, и нечего, мол, к Спасителю по пустякам обращаться.
— Суров. Нечего сказать! — удивленно проговорил князь, который был уверен, что уж для дочери у посадника плохого слова не найдется. — Это ж надо, что удумал! Хоть назад коня поворачивай да утихомиривать болезного принимайся! Одно слово, что хворый.
Вот–вот! — как‑то неопределенно проговорил сотник. — Я ей и то сказал, чтоб не горюнилась сердешная, хворый он, что на такого‑то обиду держать. Сам потом одумается.
— Наверняка одумается, — подтвердил князь. Он обратил внимание, с какой лаской говорил сотник о своей «сердешной», сразу вспомнил о своей зазнобе и, чтобы не размякнуть от одного этого сладостного воспоминания, твердо сказал: — А дабы раньше одумался, мы с тобой его нынче же под вечер навестим да поговорим строго.
До вечера было еще далеко. Это стало сразу понятно князю, едва он оказался в своих палатах, где неожиданно почувствовал себя таким одиноким, что сразу же захотел снова отправиться к заветным воротам, постучаться в дом к своей зазнобе. Такая тоска охватила его впервые в жизни. Он не находил себе места, слонялся из угла в угол, не зная, что предпринять, и удивлялся этому новому, необычному чувству, которое целиком захватило его, подчинив себе и сердце, и разум.
Макар убрал со стола нетронутые блюда с едой, взял кувшин с клюквенной водой и уже направился к двери, сокрушенно качая головой, и в это время князь, наконец оторвавшись от своих мыслей, спросил:
— А что, Макар, новостей от Егора Тимофеевича не слыхать?
— Нет, Михал Ярославич, как давеча расстались вы с ним, так он с тех пор и не появлялся. Видать, еще с Кузькой этим не управились.
— Может, мне туда податься? — спросил сам себя князь, но, подумав мгновение, сказал, глядя на Макара, как‑то неуверенно: — А позови‑ка ты мне его. Пусть поведает, много ли вызнали. Мы, правда, на вечерней заре встречу назначили, но нынче что‑то мне ждать неохота. Пускай сразу и пожалует.
Воевода ждать себя не заставил. Он был даже рад приказу князя явиться для отчета и, еле скрывая облегчение, покинул душную избу.
Кузька порядком надоел воеводе, он уже не мог видеть его изуродованное лицо, его страшно вращающийся глаз, из которого вдруг как бы сами по себе начинали литься обильные слезы, но особенно раздражал и мешал сосредоточиться на дознании мерзкий запах, исходивший от шкуры, в которую кутался Кузька. Егор Тимофеевич даже приказал ему скинуть шкуру, но, когда ее наконец‑то выбросили за дверь, вонь все равно осталась. Наверное, решил воевода, уже сам узник пропитался этим отвратительным запахом.
Разговор с князем, к огорчению воеводы, вышел не таким долгим, как он ожидал, и ему вновь пришлось вернуться в уже ненавистную избу. Правда, теперь лишь для того, чтобы передать своим сотоварищам княжеский наказ.
Михаил Ярославич вопросов почти не задавал, подробностями, как обычно бывало, не интересовался, да и слушал, как показалось воеводе, не слишком внимательно, тем не менее главное уловил.
— Что ж, — сказал князь в завершение разговора, — ежели Кузька упирается и выдавать своего схорона не хочет, значит, судить его легче будет, и совесть наша чистой останется. Поспрашайте‑ка вы его еще чуток. Но вижу, упорен он зело, много вам у него не вызнать. А раз так, то и нечего зря маяться. Нынче вечером я посадника навестить собрался, а то бы сегодня все и решил. Но уж завтра поутру я в ваших «хоромах» буду и участь Кузькину решу, а заодно, поди, и других ватажников…
— Может, все ж не с руки тебе, Михаил Ярославич, являться в вонючую избу, которую ты хоромами назвать изволил? — заметил воевода.
— А где ж мне с Кузькой разговор вести? — поднял удивленно бровь князь. — Уж не прикажешь ли его в своих покоях принимать?
— Да это я так, подумал, что ж тебе, князю московскому, на дно человеческое спускаться, — пояснил собеседник.
— Палка та о двух концах, Егор Тимофеевич! — уставившись на своего старого воспитателя, проговорил назидательно князь. — Раз я сам на дознание приду, то, как ты говоришь, на дно человеческое, в самую что ни на есть грязь опущусь. Но, думаю, коли на мне грязи ныне нет, то и там не замараюсь. Только сам посуди, ведь по–твоему выходит, ежели я изверга в своих палатах приму, то его тем самым возвышу. И вот тут — правда твоя! Кузьки этого уже и быть не будет, а молва наверняка останется, что его сам князь московский в своих палатах принимал да по душам с ним беседовал. Вот до чего, мол, важной птицей был Кузька — не чета другим татям. А он ведь тем только важен, что над другими такими же обманом да хитростью встал! Его‑то самого Бог ни силой, ни отвагой не наградил. Мы уж и так его отличили: от всех сотоварищей — для их же пользы, заметь, — отделили, вот пусть этим и довольствуется. Нечего ему в княжеском тереме половицы пачкать.