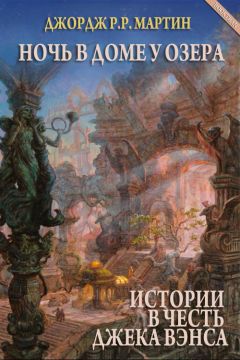Алексей Салмин - Буря на Волге
У двора уже стояла двуколка, запряженная парой лошадей.
— Слезай, Кадников! Я сам провожу Чилима, — кричал Савкин, сталкивая конюха с сиденья.
Бабкин, Ильяс и еще двое солдат прыгнули на повозку.
— Эх вы, родные! — протяжно крикнул Савкин, закрутив вожжами. — Потешим напоследок Чилима!
Лошади с места взяли рысью, провожающие замахали шапками, и все скрылось за углом улицы. Проводив до станции Чилима, солдаты с невеселыми мыслями возвращались в роту. Да и Чилим все еще пе мог успокоиться, тронутый теплыми чувствами провожающих.
«Ведь что ни говори, а три года вместе жили, три года голодали и ежедневно смерти ждали...»
Сумерки сгустились. Налетела снежная туча, завихрилась метель по степи. Мимо замелькали телеграфные столбы, полустанки. Рядом с Чилимом, прячась от ветра за бортом платформы, поет солдат:
Вот стучат, стучат колеса,
Поезд мчится на восток.
Пролегают быстро версты,
Паровоз дает свисток.
Из-за снежного тумана
Выплывают города.
Может, пишет без обмана,
Что с тобою навсегда.
Но другая мысль тревожит,
Сердце гложет и сосет.
Если милая изменит
То и встретить не придет.
И опять стучат колеса,
Вот последний перегон.
Сильно ветер треплет косы,
Она вышла на перрон.
У обоих сердце бьется,
Зашумели тормоза.
Перед ним уже смеются
Ее синие глаза.
Вот чертова кукла и так на сердце кошки скребут, а он еще мусолит эту песню», — думает Чилим.
Но мысль его прерывает веселый окрик: «Слезай, братва! Товарняк дальше нс идет!» Поезд остановился.
— «Шепетовка», — прочитал Чилим.
Здесь солдаты сгрудились шумной толпой. Затем они пошли в вагоны подошедшего поезда. Чилиму с трудом удалось забраться в набитую до отказа теплушку. После открытой платформы он чувствует себя здесь, как дома на на печке. Правда, сесть было негде, пришлось стоять. Со всех сторон подпирали солдатские спины, увешанные ранцами и мешками. Большинство везло оружие. У Чилима мешок тоже не был пустым. Когда собирался, сунул пяток австрийских гранат, думая: сгодятся на Волге рыбу глушить.
— Эй ты, земляк! Чего прячешь под нары? — крикнул один из солдат.
— «Собачку» маленькую огоревал, — улыбнулся солдат, затаскивая под нары мешок с разобранным пулеметом и лентами.
— Наверное, свое имение охранять... — пошутил другой.
— А то как же? У нас имение, брат ты мой, агромадное, — также шутя, говорил пулеметчик. — Только последнюю коровенку за недоимку увели еще в шестнадцатом году. «Вот так, сыночек, — писал отец, — ты там воюешь, защищаешь царя-батюшку, а ко мне пришли старшина, староста и урядник и корову увели, да еще вдоль спины получил за то, что не отдал сразу». А была бы вот эта штука, — пнул в мешок пулеметчик, — нажал — и ваших нет...
— И тут же в Сибирь, на каторгу загремел бы, — заметил солдат с надписью на фуражке «писарь».
— Ты помолчи, писучая душа. Думаете, все так и будет? Нет уж, душа любезная, прошли ваши золотые денечки... Разрешите теперь нам погулять вот с этой штукой, — снова ткнул ногой в мешок пулеметчик.
Так, шутя, переговариваясь, ругаясь, добрались до Москвы.
Чилиму пришлось передневать у знакомого москвича — солдата, ехавшего вместе с ним. А вечером он уже был в вагоне поезда, отправлявшегося на Казань. И в этом вагоне продолжался прежний разговор. Один толстый мужчина укорял солдата, везшего с собой винтовку и порядочное количество патронов.
— Ну скажи на милость, зачем ты эту чертову кочергу домой везешь?
— С Волги я, дядя, иногда охотой занимаемся, а ружьишко немудрящее, бывало, насядет на песчаную косу гусей видимо-невидимо, а на выстрел не подпускают. А из этой-то вот чертовой кочерги — зашел из-за кустов и вали, определенно пару, тройку вышибешь... Понятно? — улыбнулся солдат.
— Знаем мы, каких гусей хотите стрелять... — сердито огрызнулся толстяк.
— Ну, а если знаете, так зачем еще спрашивать, — также недружелюбно ответил солдат.
Поезд медленно, черепашьим шагом ползет по заснеженным полям. Чилиму только на четвертые сутки удалось прибыть в родной город. Сойдя с поезда, он поспешил на постоялый двор, чтобы подыскать там в дорогу попутчика. Но время было раннее, приехавшие мужики все разошлись по базарам. От хозяйки постоялого он узнал, что из деревни приехал лавочник Степаныч, который тоже ушел за покупками.
— Где бы тут мешочек бросить? — спросил он хозяйку постоялого двора.
— Оставь вот здесь, на кухне. Тут никто не возьмет, — ответила она.
Бросив под стол свой мешок с пожитками, Чилим побрился, привел себя в порядок и отправился проведать Надю.
«Неужели я снова увижу ее?» — думал он, подходя к дому. Теперь он решил обо всем справиться у двор-ника, поэтому завернул в сторожку.
— Здравствуй, дядя Агафон! — откозырял Чилим.
Дворник поглядел пристально на Чилима и воскликнул:
— Ara, Василий! Вот это ловко! Значит, жив! Ну, милости просим, присаживайся.
— Мне сидеть некогда, дядя Агафон, я пришел узнать, дома ли Надя.
— Нет, голубчик, она дома не живет. Как ушла позапрошлой осенью, так с тех пор и не появлялась. Ну, как, совсем, что ли, отвоевались?
— Нет, дядя Агафон, я в отпуск иду, по ранению, — ответил Чилим, направляясь к двери.
— А чего ты торопишься? Посидел бы.
— На постоялый надо, как бы там попутчики не уехали.
— Ну, коли приедешь в город, заглядывай, може, и она вернется.
— Зайду! — крикнул, уходя, Чилим.
— Ишь ты, как крепко вцепились, и водой не разольешь, о ее ищет, она его, и никак не найдут...
Вернувшись на постоялый двор, он сразу же увидел Степаныча.
— Ба, Василий! Домой, что ли?
— Домой! — весело крикнул Чилим, обрадовавшись попутчику.
— Клади мешок от на сани да помоги мне нагрузить товар. Я один на двух подводах, вместе поедем.
Когда выехали за город, Степаныч пересел на сани к Чилиму.
— Ну как, Василий, совсем, что ли, отвоевались?
— Да нет еще, пока по болезни на отдых.
— Чем болеешь, али испанской болезнью?
— Да кто его знает, простыл что ли, валяясь в окопах, или после ранения все не могу еще оправиться.
— Значит, ранен был?
— Два раза. Один-то раз свой офицер пулю влепил.
— Это за что же? — допытывался Степаныч.
— Да просто, видимо, сдуру, пьяный он был.
— Може, не подчинился?
— Нет. Просто так, по пьянке, — не хотел сознаться Чилим.
— А как ты, Василий, думаешь, эта власть так и останется? — перевел разговор лавочник.
— Пожалуй, так и останется. Она с каждым днем все крепнет. На фронте почти все части стали большевистскими, а раз солдаты взялись за это дело, то, как ни говори, они большая сила...
— Да-а, — протянул в раздумье Степаныч. Он, видимо, не ожидал этого услышать от фронтовика. Подобные новости явно не устраивали лавочника. И это было видно по тому, как Степаныч спрыгнул с саней, на которых ехал Чилим, и, выкрикивая злобные ругательства, стал нахлестывать переднюю лошадь. Так, почти без пересадки, Чилим добрался до своей лачуги.
Переступив порог своего дома, Чилим растроганно крикнул:
— Мама!
— Вася! Милый! Жив, мой дорогой! — обливая слезами, целовала сына Ильинична, — Пришел, слава богу.
— Да, как видишь, маманя, — проговорил Чилим, распутывая башлык.
В это время дверь снова открылась, на пороге появился малыш и с порога крикнул:
— Бабушка! Я есть хочу! Развяжи шарф!
— Батюшки мои! Снегу-то сколько привез, отряхивай скорее с валенок-то! — крикнула Ильинична.
Чилим подскочил к малышу, крепко прижал его.
На него пристально смотрели синие глазенки.
— Я сам, — пыхтел малыш, размазывая варежками снег по валенкам. — Мы с Кузькой на санках катались!
— Замерз ведь, полезай скорее на печку! — кричала Ильинична, подталкивая малыша.
— Я не озяб, только ручки, — лепетал малыш, залезая на печку. — Бабушка! Иди сюда!
— Чего тебе еще? — подходя к печке, спросила Ильинична.
— Да ближе, вот так, — Сережа обвил ручонкой шею Ильиничны и зашептал на ухо: — Бабушка, это тот солдат, который нам письма писал?
— Да, — кивнула головой Ильинична. — Ну, ладно, ладно, Сереженька, солдат-то вон с дороги, наверное, тоже кушать хочет.
— Чего вы там уговариваетесь? — спросил Чилим.
— Мне тоже вот такую штуку надо, когда кататься пойду, — показал на башлык малыш.
— Ну-ну, хорошо, милый, я тебе сама подвяжу, — сказала Ильинична и начала пристраивать к отдушине самовар.
За чаем Ильинична совсем повеселела и начала рассказывать деревенские новости, как отобрали гагаринское имение и как его делили в деревне: