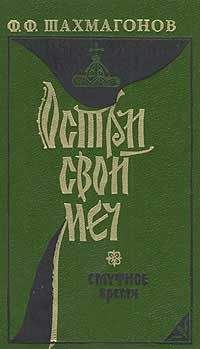Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
«Театр! Подлинный театр, — сказал себе Иван Иванович, выбираясь из толпы. — Мог ли Фёдор Волков мечтать когда-либо вот так, со ступенек Божьего храма, а не с подмостков сцены обратиться к многотысячной толпе? Но вот же, случилось. Великий маг, актёр с Божией искрой, во мгновение ока привёл смотрельщиков этого невиданного действа сначала в оцепенение, а затем в подлинный экстаз, заставив тысячеустую толпу громкими криками: «Слава, слава, слава!» — выражать неизъяснимый восторг».
Но он ли, актёр, сотворил это чудо и было ли то, что сейчас происходило здесь, у Казанской церкви, театром? Нет, то была сама действительная жизнь, действо, не разученное на репетициях, не подготовленное кем-то заранее, а возникшее стихийно, растущее на глазах, как зимою из пригоршни снега вырастает целый ком.
Однако разве бывает, чтобы желания и воля тысяч и тысяч людей, вчера ещё незнакомых друг с другом, так едино и мощно слились в общую силу?
«Она, и никто другой, даже не Фёдор Волков, — главная лицедейка в сём театре, — обожгла внезапная мысль Ивана Ивановича. — И вовсе не случайно, не вдруг родился сей спектакль, а готовился ею, этой непревзойдённой актёркою, исподволь, вовлекая в свои заговорщические прожекты всё новых и новых действующих лиц».
В памяти Шувалова возникла та сцена во дворце, когда она, эта актёрка, говорила с императрицею, а он, единственный смотрельщик, стоял за ширмою и следил за тем спектаклем. И государыня, и он сам были убеждены в том, что с первых же слов обвинения великая княгиня падёт на колени и слёзно станет молить о пощаде, признавшись в содеянном преступлении. Но, как часто случается на сцене, действие стало развиваться в совершенно ином направлении. Та, от которой ждали раскаяния и смирения, сама превратилась в обвинителя. «Да, я совершила то, в чём вы меня обвиняете. Но сделала это потому, что вы все держали меня в чёрном теле, хотели меня выслать из страны или вовсе сжить со свету. Потому я, именно я, которую вы стремитесь обвинить во всех смертных грехах, — жертва вашего бессердечия и чёрствости».
Тогда нельзя было поставить этот спектакль, заранее не продумав каждую его сцену, каждое слово собственной роли и слова, кои могли произнести её партнёры. Даже такая непредсказуемая в своём поведении и своих чувствах, как императрица Елизавета. Но она, великая актёрка Екатерина, её превзошла. Сыгранная ею роль тогда была не просто игрою — это оказалась схватка за жизнь, в которой она одержала бесспорную викторию.
Нынешнее действо не сравнить с тем, давешним, — не тот размах и не те цели. И — не тот риск. Но разве она не подлинная лицедейка, чтобы заранее всё рассчитать, чтобы всё предусмотреть и выйти на сцену полной блеска и огня!
— Во дворец! К новому Зимнему! — вдруг услышал Иван Иванович клики, которые вывели его из размышлений, в кои он невольно погрузился. И он, продолжая размышлять над случившимся и боясь спросить себя, как следует поступить ему в сём действии, двигался следом за толпою туда, куда она его вела.
А вот и бывший пустырь между старым Зимним, берегом Невы и улицами Миллионной и Галерной. Петербуржцы уж много лет привыкли обходить это место стороною, поскольку за забором шло невиданное строительство и вокруг было навалено столько мусора и хлама, что можно было поломать ноги.
Дворец — весь из камня, огромный по своей протяжённости по фасаду и со стороны Невы — заложила Елизавета Петровна. Ей непременно хотелось самой в него перейти, но стройка, как всё свершается у нас на Руси, шла медленно, поскольку, как всегда, не хватало денег.
Однако, чтобы отделать лишь одни покои императрицы, Растрелли испросил триста восемьдесят тысяч рублей. Где было взять такую сумму, когда ещё шла война, никто не знал.
Сам Иван Иванович вынужден был тогда признать, к какому краху пришла держава, надорвавшаяся на военных расходах, расстроенная внутренними беспорядками и хаосом в управлении, истощённая воровством снизу доверху.
— Все повеления — без исполнения. Главное место — без уважения, справедливость — без защищения, — попенял он тогда канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову, коего вина как главы кабинета была во всём этом немалая.
В середине лета 1761 года, казалось, повеление императрицы решили исполнить — потребную сумму для завершения строительства дворца Сенат изыскал. Но тут случилась напасть: пожар истребил громадные склады пеньки и льна, причинив их владельцам миллионные убытки. Елизавета тогда отказалась от мысли закончить свой дворец и приказала передать уже изысканную сумму пострадавшим. Но буквально перед своею кончиною, когда она спросила, все ли деньги выплачены погорельцам, узнала, что они отнюдь не были израсходованы по назначению, а частью ушли на продолжение войны или вовсе осели в карманах высших сановников.
За прошедшие полгода стройка сдвинулась с места — новый государь решил непременно, ещё до того как отправится на войну с Данией, переселиться в новые покои. Он сам определил день, когда должно состояться новоселье, чем привёл в сильнейшее волнение свой двор, и в первую очередь главного полицеймейстера Корфа. Тот чуть ли не потерял рассудок, когда представил себе, как можно будет в одночасье избавиться от всего хлама, мусора, брёвен, досок, кирпичей, что навалены были вокруг дворца, и от многочисленных лачуг, сараев и других временных построек, возведённых на строительной площадке. И тут родилась мысль, в основе коей Корф усмотрел одну из главных черт русского характера: следует объявить, что со стройки можно уносить всё, что приглянется, и площадь немедленно расчистится.
Так и случилось: дворец уже долгое время стоял освещённый огнями, красуясь огромной площадью, сразу облюбованной императором для проведения вахтпарадов и смотров войск.
Ликующий поток солдат и обывателей, во главе которого, как богиня на колеснице, ехала в своём экипаже новая всероссийская государыня, повернул к новому Зимнему дворцу. Толпа расположилась на площади, а Екатерина в окружении тех, кто уже ей присягнул, вошла в помещение.
Следовало не теряя времени выработать план дальнейших действий, и потому в одном из залов собрался совет. Императрица внимательно выслушивала предложения вельмож и членов Сената, оказавшихся с нею рядом в первые часы, редко прерывая их своими репликами и замечаниями.
Иван Иванович тоже очутился в зале и растерянно остановился сразу же у дверей. Неожиданно они растворились, и он увидел прямо пред собой брата Александра.
Граф Шувалов в недоумении осмотрелся, словно собираясь спросить, как Иван Иванович оказался здесь, в стане заговорщиков, но презрительно повёл головою в сторону и направился к Екатерине. Лицо его при этом исказилось уже знакомым многим нервным тиком.
— Ваше императорское величество, — начал он, — государь направил меня в Петербург, чтобы напомнить вашему величеству о том, что он ждёт вас в Ораниенбауме на торжества по случаю дня своего ангела.
— В самом деле? — улыбнулась Екатерина, готовая рассмеяться. — А я полагала, что его величеству не скучно и без моего присутствия. Разве не так, граф? Что же касается праздника Святых Петра и Павла, то я решила отметить сей знаменательный день в обществе моего сына, великого князя Павла. Разве это и не его праздник?
Нервное подёргивание совершенно исказило физиономию графа, и он растерянно произнёс:
— Однако это повеление государя, мадам.
— А другого повеления он вам не передал? — неожиданно сурово спросила Екатерина. — Например, арестовать меня или даже убить? Отвечайте же, граф, предо мною, вашею государыней, и пред всеми, кто уже выказал мне свою преданность. У вас есть только один выбор: или вы тут же приносите присягу мне, или же с позором возвращаетесь к тому, кто послал вас сюда, но у кого уже нет более власти.
Она встала со стула и подвела Александра Ивановича к окну:
— Я не запугиваю вас, граф. Я лишь предлагаю вам выглянуть в окно. Видите там, внизу, лес штыков. Это не я пошла против моего супруга. Это поднялся против него сам народ. Я же только повинуюсь его воле — воле моего народа.
Тот, главное дело которого было выявлять злоумышляющих на верховную власть и беспощадно их наказывать и безжалостно истреблять, опустил голову и произнёс:
— Я повинуюсь воле народа и вам, ваше величество. Примите мою присягу на верность вам, наша государыня...
А в зале вновь всё смешалось, как давеча у Казанского собора. Только уже на лестнице, спускаясь вниз, Иван Иванович вдруг увидел канцлера. Михаил Илларионович, раздвигая встречных плечами, пробирался наверх.
— Что происходит, Жан? — заговорил он, оказавшись рядом. — Его величество передал мне, что готов простить ей это сумасбродство. Он, ты сам знаешь, незлобив и немстителен, хотя императрица перешла все границы дозволенного.