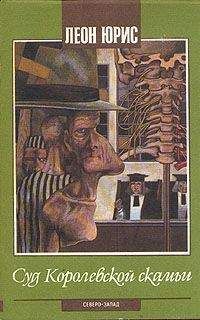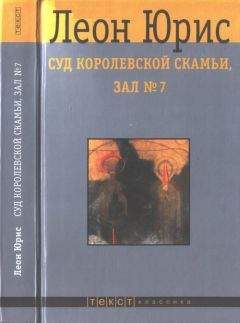Юрис Леон - Суд королевской скамьи
— Вы утверждали, что вам было семнадцать, но на самом деле шестнадцать. Это было очень давно, двадцать лет назад. И многое трудно припомнить, не так ли?
— Кое-что я в самом деле забыл. Но есть и то, что я никогда не забуду.
— Да. Вы освежили в памяти то, что вам довелось забыть, не так ли?
— Освежил?
— Приходилось ли вам раньше давать показания или заявления?
— В конце войны я сделал в Хайфе заявление.
— И вплоть до последних месяцев в Израиле вы больше не делали никаких заявлений?
— Это верно.
— Если не считать юриста, которому вы представили свои показания на иврите?
— Да.
— И по прибытии в Лондон вы оказались в компании других юристов и доктора Либермана и снова прошлись по тому, что говорили в Израиле?
— Да.
— И вы значительно освежили свои воспоминания?
— Мы уточнили ряд пунктов.
— Я вижу. Относительно морфия... то есть предварительного укола. Вы говорили на эту тему?
— Да.
— Я могу предположить, что вы потеряли сознание не из-за болезненной пункции, а потому, что в третьем бараке вам сделали укол морфия, который оказал воздействие тогда, когда вы оказались в пятом бараке.
— Никаких других уколов я не припоминаю.
— И так как во время операции вы были без сознания, вы не можете говорить ни о, жестокости, ни вообще о ходе операции.
— Я так и сказал, что был без сознания.
— И, конечно, вы не можете опознать доктора Кельно, а также других хирургов или человека, который брал у вас сперму?
— Опознать их я не могу.
— Наверно, вы видели в газетах снимки доктора Лотаки. Можете ли вы опознать его?
— Нет.
— Итак, мистер Бар-Тов, вы испытываете большую благодарность к доктору Тесслару, не так ли?
— Я обязан ему жизнью.
— Случалось, что в концлагере люди спасали жизнь друг другу. Вы знаете, что на счету доктора Кельно тоже есть спасенные жизни, не так ли?
— Я слышал.
— Продолжали ли вы поддерживать связь с доктором Тессларом после освобождения?
— Мы потеряли контакт с ним.
— Понимаю. Но вы виделись с ним, оказавшись в Лондоне?
— Да.
— Когда?
— Четыре дня назад в Оксфорде.
— Ясно.
— Как старые друзья, мы должны были встретиться с ним.
— Доктор Тесслар имеет на вас большое влияние.
— Он был для нас настоящим отцом.
— Вы были тогда совсем молоды, способность к запоминанию еще не закрепилась, и вы могли забыть какие-то вещи.
— Кое что я никогда не забуду. Вам когда-нибудь загоняли деревянную палку в задницу, сэр Хайсмит?
— Минутку, — вмешался Гилрой. — Вопросы тут задают вам.
— Когда вы впервые услышали имя Кельно?
— В третьем бараке, когда нас туда доставили.
— Кто называл его?
— Доктор Тесслар.
— И недавно в Лондоне вам был,показан полный план пятого барака.
— Да.
— Чтобы расположение помещений четко отпечаталось у вас в памяти.
— Да.
— Потому что вы не помнили в точности, в каком из его помещений вы находились в то время. Так мне кажется. Вам показывали фотографии Восса?
— Да.
— А теперь скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в киббутце?
— Я занимаюсь изучением рынка и доставкой грузов вместе с другими членами киббутца.
— А до этого?
— Много лет я был водителем трактора.
— В вашей долине очень жарко. Трудно ли работать?
— Да, жарко.
— И вы служили в армии?
— Я был на двух войнах.
— И вы по-прежнему каждый год исполняете воинскую обязанность.
— Да.
— И учитывая, что у вас четверо детей, можно предположить, что операция не нанесла большого урона вашему здоровью.
— Господь Бог проявил ко мне благосклонность. Больше, чем к другим.
Баннистер предпринял мощное наступление по всему фронту, в чем ему способствовали еще трое мужчин — голландец и два израильтянина, — которые были с Бар-Товом в ту ноябрьскую ночь. Поскольку каждая деталь их рассказов была неоднократно выслушана вне зала суда, в их показаниях встречалось все меньше расхождений. Все они свидетельствовали, что доктор Тесслар присутствовал в операционной и, когда их сила духа слабела, он оказывался рядом. Разница заключалась лишь в том, что у них не было своих детей, в отличие от счастливчика Бар-Това.
После того, как третий из них завершил свои показания, Баннистер пригласил на свидетельское место бывшего голландца, который некогда носил имя Эдгара Биитса, а ныне был известен под именем профессора Шалома из Еврейского университета.
Хайсмит внезапно почувствовал изнеможение от этой утомительной борьбы. Он поручил перекрестный допрос Шалома своему молодому помощнику Честеру Диксу.
В очередной раз профессор Шалом. восстановил последовательность событий, но его показания были на редкость четкими и ясными. Когда Дикс закончил задавать ему вопросы, поднялся Баннистер.
— Прежде чем данный свидетель покинет трибуну, я вынужден обратить ваше внимание, что мой ученый друг предпочел не задавать свидетелю некоторых вопросов, касающихся роли истца в данных событиях, и, что еще более важно, он не уточнил у свидетеля, был ли в операционном зале доктор Тесслар. И я хотел бы обратить внимание вашей чести, что никто из моих досточтимых коллег не высказал сомнений в правдивости показаний свидетелей.
— Да, я понимаю, что вы имеете в виду, — сказал судья. — Итак, что вы скажете, мистер Дикс? — Он наклонился вперед. — Я полагаю, суду присяжных хотелось бы знать, давали ли свидетели просто волю своему воображению, выдумывая все, что мы тут слышали, или же они говорили совершенно искренне, и на эти показания вполне можно положиться. Итак, каково ваше мнение, мистер Дикс?
— Я не думаю, что они были абсолютно точны,— ответил Дикс, — учитывая те сложные обстоятельства, в которых они находились.
— Но вы же не предполагаете, — сказал Гилрой, — что все, рассказанное ими, — сплошная ложь?
— Нет, милорд.
Общепринято, продолжал настаивать Баннистер, — подвергать сомнению показания свидетеля, если вы не уверены в них. Но в большинстве случаев вы не делали этого.
— Я задавал несколько вопросов относительно присутствия доктора Тесслара.
— Нет необходимости уточнять у свидетелей каждую мельчайшую деталь. Впрочем, почему бы не предоставить им возможность самим ответить, — сказал Гилрой, которого уже стала несколько раздражать настойчивость Баннистера.
— Я предполагаю, что доктора Тесслара не было в операционной, — заявил Дикс.
— Он был там, — тихо сказал профессор Шалом.
16
Через несколько секунд после того, как чешским национальным гимном в полночь закончились передачи телевидения, Арони поднял трубку, отвечая на телефонный звонок.
— Пройдите через сквер у Национального музея. Вас будут ждать около статуи.
Хотя уже миновала полночь, с улицы все еще доносились звуки музыки и смех. Как долго еще будут смеяться в Чехословакии? Арони попытался представить, какая судьба его ждет. Конечно, в полицейском управлении они детально обсуждали цель его появления в Праге. После таинственной смерти Катценбаха и этот город стал опасен.
Прямо перед ним притормозила машина, и дверца ее открылась. Он расположился рядом с молчаливым охранником. Рядом с водителем на переднем сиденье сидел Иржи Линка. Молча они пересекли Карлов мост и подъехали к неописуемо огромному зданию на Кармелитской, где у входа была вывеска «Управление археологических исследований». Но все в Праге знали что тут размещалось управление тайной полиции.
В обширном мрачном кабинете стоял длинный стол, крытый зеленым сукном. Торец комнаты был украшен привычными иконами — портретом Ленина, которого вряд ли можно было счесть героем чешского народа, и изображениями сегодняшних лидеров Ленарта и Александра Дубчека. Арони прикинул, что портреты последних не так долго провисят на этой стене.
Браник меньше всего походил на полицейского. Он был худ, раскован и добродушен.
— Вы все еще занимаетесь делами, Арони? — Я всего лишь держу руку на пульсе времени.
Кивком головы Браник дал понять остальным, что все они, кроме Линки, могут оставить их, и приказал принести напитки.
— Во-первых, — сказал Арони, — вы должны поверить мне на слово, я тут оказался по сугубо частному делу. Я не собираюсь вмешиваться в дела вашего правительства, собирать деньги и ни с кем не буду вступать в контакт.
Браник аккуратно вставил сигарету в длинный мундштук и прикурил от отнюдь не пролетарской золотой зажигалки. Он понимал, что Арони вынужден был сказать нечто подобное, если он не хочет кончить свою жизнь в реке, как Катценбах.
— Мое дело имеет отношение к процессу в Лондоне.
— Какому процессу?
— Тому самому, о котором сегодня говорится на первых страницах всех пражских газет.