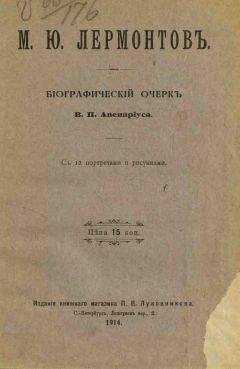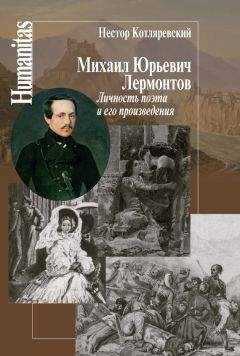Исай Калашников - Последнее отступление
Серов повернулся от окна, быстро прошел к двери, пригласил Чугуева войти.
— Я все отдавал армии, воевал, пролил кровь за землю своих отцов. — Чугуев был возбужден, но старался сдерживаться, и это ему удавалось, лишь временами в голосе прорывалась хрипота. — Я не разбираюсь и не имею желания разбираться в тонкостях вашей игры. Но вот что мне не понятно. Вы много говорите о свободе совести, личности и прочих красивых вещах и в то же самое время лишаете человека права заниматься тем, чем он всю жизнь занимался. И почему? Да только потому, что человек не принадлежит вашей партии.
— А кому он принадлежит, этот человек? Или вы считаете, что это нам безразлично?
— Безразлично вам или не безразлично, не мое дело. Я солдат, а дело солдата — защищать свою страну, свой народ.
— Не надо громких слов, — попросил Серов. — Скажите, вы оставите солдата в охранении, если он не знает пароля?
— Конечно, нет.
— А чего хотите от нас? Вы — часовой, не знающий пароля, и в этом все дело.
Чугуев помолчал, наморщив лоб, не очень уверенно сказал:
— Пароль, мне кажется, я знаю. Вы отстранили меня по другим соображениям.
— По каким же?
— Вы подозреваете меня…. — Чугуев слегка запнулся, ноздри его горбатого носа побелели, — что я могу нанести удар в спину. Так?
Прямота Чугуева располагала к себе. Серову захотелось сказать бывшему полковнику, что он отстранен не из-за подозрения в измене, а из простой предосторожности и как только все войдет в свое русло, Совет, очевидно, решит, где лучше использовать его воинский опыт. Но поскольку на самом деле все обстояло сложнее — логика подсказывала, что Чугуеву, больше чем кому бы то ни было, не по душе новые порядки в армии, и естественно ждать от него действий, направленных против тех, кто утверждает эти порядки, — поскольку все было очень не просто и сглаживать разговор значило уходить от него, Серов, преодолевая отвращение к слову «подозрение», сказал:
— Подозреваем? Да, это так.
— Что же… Спасибо за откровенность, но… — Чугуев поднялся, надел фуражку, непроизвольным движением поправил ее. — Впрочем, до свидания…
Повернулся, пошел. Спину туго обтягивала пропотевшая на лопатках, выгоревшая гимнастерка.
— Подождите, пожалуйста. Я сказал не все. Садитесь.
Машинально, не глядя, Серов оторвал угол газеты, свернул папироску. Все делал медленно, выгадывая время. Да, он сказал ему не все, но и не все решил для себя. Не может он, не имеет права так вот оттолкнуть человека. Если он не враг — станет врагом. А если враг? Сердце не верит в подлость этого человека с прямым и твердым взглядом, но можно ли в таких случаях полагаться на сердце: не подведет ли оно?
— Поймите наше положение. На востоке — Семенов, на западе — чехи, здесь — недобитая контрреволюция, и слишком много зависит от людей, в чьих руках оружие… — Серов оборвал себя, поняв, что он говорит не совсем то, что нужно, помолчав, твердо закончил: — Верят вам солдаты — поверили и мы.
— Спасибо, — просто, как должное, принял это Чугуев. — Я не заставлю вас раскаяться.
— К вам мы назначим комиссара.
— А кто будет комиссаром?
— Стрежельбицкого или Черепанова…
— Пожалуйста… Но если можно, не Стрежельбицкого.
— Почему?
— Его не любят солдаты.
— Посмотрим. Пошлите их ко мне.
«Не любят солдаты»… Фраза, брошенная Чугуевым, засела в голове, и Серов все время помнил о ней во время разговора с Черепановым и Стрежельбицким.
Грубое, непривлекательное лицо Черепанова было пасмурным, большие костистые руки сжаты в кулаки. Стрежельбицкий курил, щурился от дыма, изредка бросал на Серова настороженно-тревожные взгляды.
— Скажите, в день мятежа все солдаты были на месте? — спросил Серов.
Стрежельбицкий затянулся, выпустил густое облако дыма. На минуту его лица не стало видно.
— Одно подразделение выходило на учение, — ответил он, — остальные гарнизон не покидали.
— Кто проводил учения?
— Я проводил, товарищ Серов. А что?
— Где вы были?
— В окрестностях города, у Лысой горы.
— Солдаты были вооружены?
— Да, конечно.
Стрежельбицкий растер в пепельнице папироску, его пальцы едва заметно дрожали.
Под взглядом Серова он подался вперед, навалился на стол грудью, вполголоса сказал:
— Вы это связываете с беспорядками в городе? У меня есть кое-какие предположения. Накануне я встретился с Чугуевым. Он был чем-то обеспокоен. Начнет говорить про одно, перескочит на другое…
Черепанов хмыкнул, пробасил:
— Не разводи барахолку со своими выдумками. Чугуева и я видел в тот вечер. Никакого беспокойства у него не приметил… Не тот прицел берешь…
— Вполне возможно, что я ошибаюсь, — охотно, слишком уж охотно и поспешно согласился Стрежельбицкий.
Позднее, наедине с Черепановым, Серов сказал:
— Можем ли мы проверить, что за человек Яков Стрежельбицкий? Есть в нем что-то неприятное, настораживающее.
— Вертячий он. На одной ноге, будто железный петух на трубе поворачивается. А проверить… Будьте спокойны, Василий Матвеевич, я с него глаз не спущу.
8Припекало с самого утра. Застойный воздух к обеду стал обжигающе сух и тяжек, даже мухи, обычно звеневшие на стекле, собрались под потолок, куда не попадали лучи солнца. Артем после ночного дежурства выспался плохо, поднялся с тяжелой головой. Спросил у тетки Матрены, нет ли из Шоролгая письма. Он спрашивал ее о письме каждый день, и она всякий раз отвечала: «Ничего нет».
Шагая в Совет, он с тоской смотрел на дома с плотно закрытыми ставнями окон на солнечной стороне и думал о Нине, жалел, что поторопился уехать, не сказал ей в глаза… А что он мог ей сказать? Разве она что-нибудь обещала?
В ограде Совета в тени сидели на земле красногвардейцы, курили махорку. Артем тоже сел, попросил закурить, затянулся раз и закашлялся, бросил папироску.
— Не приучивайся, парень, — сказал пожилой красногвардеец. — Новость слышал? На Байкал поедем…
Прижимаясь спиной к некрепкому забору, Артем рисовал на песке лошадь под седлом и девушку на лошади. Письма он так и не получит. На Байкале доведется пробыть, видимо, не день и не два, и не известно, что там его ждет, а он едет туда с камнем на сердце. Эх, Нина, Нина!.. И чем тебе приглянулся тот желтоглазый приказчик?..
Из Совета вышел Андраш Ронаи, черный, худой, будто высушенный солнцем в наглухо застегнутой гимнастерке, пояс оттягивал маузер в деревянной кобуре. Красногвардейцы построились. Ронаи, плотно сжав тонкие, неулыбчивые губы, прошел вдоль строя, с мягким акцентом сказал:
— Получите продукты. До шести вечера свободны. В шесть — на вокзал. Все.
Получив продукты, Артем пошел навестить Любку. Горячий знойный воздух загустел, томящей тяжестью наливалось тело, а на высветленном лучами небе ни облачка, но чувствовалось, что где-то за горами в гнетущей тишине рождаются грозовые тучи. Окна в Любкиной комнате были распахнуты, но духота стояла такая же, как на улице.
— Посиди маленько, я сбегаю недалеко, раздобуду еды, — сказала Любка.
— Не надо. Я и сам могу угостить тебя. — Артем выложил из мешка все, что получил на складе: булку хлеба, немного масла и сплавленные в ком конфеты.
— У-у, ты богато живешь! — всплеснула руками Любка, и, стараясь, чтобы это звучало не особенно печально, добавила: — У меня скоро опять будет нечего есть. Денег осталось мало, а все так дорого…
— Ты по карточкам не получаешь?
— Кто даст мне карточки, — вздохнула Любка.
— Ну как же, я сам видел, как товарищ Сентарецкий выписал тебе карточки. Я договорился с ним насчет твоей работы.
— Ты договорился о работе?
— Ну, конечно. Не пойдешь же ты обратно к тем негодяям. Неважнецкая, правда, работенка — в госпитале простыни стирать. Но ты не отказывайся, Люба…
— Какой ты славный, Артем! — тихо сказала Любка. — Я что хочешь буду делать, только бы не возвращаться к старому…
— Ты держись, сама с собой будь строже. Заблудиться недолго, Люба. Я когда сюда приехал, ничего понять не мог. Ходил по городу, разинув рот…
— Чай пить будем? Сейчас я согрею, — Любка подошла к печке, взяла полено.
— Ждать я не могу. Уезжаю сегодня.
— Куда? Надолго? — полено выпало из ее рук.
— Кто же знает, надолго ли…
— Что же мне теперь делать? — растерянно спросила Любка.
— Как — что? Работать. У нас люди хорошие, не то, что анархия эта.
— Так мне и везет!.. Одно найду — другое потеряю, — не слушая Артема, говорила она. — С тобой разговаривать мне хорошо было. Я бы и матери не сумела сказать того, что тебе говорила…
— Ты сама себя изводишь, Люба. Что с того, что ты мне говорила. Я же не один такой. Присмотрись к людям — и поймешь: вроде худой человек, хоть брось, а потом проступит невзначай у него доброе-то, станешь разбираться, а он насквозь хороший. Тебя я тоже считал нехорошей девкой, сторонился. Вот оно как получается. Ты не расстраивай себя.