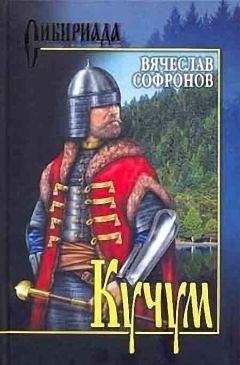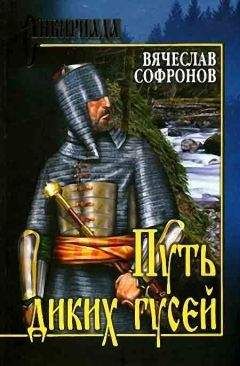Борис Дедюхин - Василий I. Книга 2
Василий знал богатого переяславского вотчинника Петелина, велел:
— Отправить боярину.
— Не надо, великий князь! — пал на колени и стукнулся лбом о землю Митя Кожух. И фрязин заволновался, но Максим урезонил обоих:
— По уговору между князьями и боярами на Руси кто купил полонянина, тот берет цену по целованию, а из своего плена отпускает без откупа.
Митя Кожух, не вставая с земли, снова попросил:
— Не надо, великий князь! Сын Петелина Иван Хлам продал меня вот ему, купцу этому…
— Как так? — обернулся Василий к фрязину. — Стало быть, ты его второй раз продаешь, а может, потом еще и у меня купишь?
Фрязин заметался взглядом, не зная, у кого поддержку найти и что в оправдание сказать. Ничего не нашел умнее, как вытаращить бесстыжие глаза и рассудить:
— Раб, оставшийся без господина, торопится найти себе нового повелителя, на то он и раб. А я ему споспешествую.
— Довольно! — оборвал в нетерпении фрязина великий князь и повернулся к Ивану Кошкину: — Разберись!
Следующий паробок тоже отказался возвращаться к своему бывшему владельцу, но по другой причине:
— Беглый я. Сотом меня звать, потому как всю жизнь в бортниках. В Ярославле жил, взял у резоимца рубль один на год, обязался платить рост по расчету, как идет на пять шестой[93]. А тут пожар в нашем лесу случился от молоньи, все мои бортные знаки погорели, не достал я меду. Деньги по росту легли, опять на пять шестой пошло, уже задолжал я ему целых два рубля. Попросил я резоимца возместить долг изделием моим…
— А он что? — Максим проникся участием. — Не согласился?
— Согласился. Похотел, чтобы я у него во дворе холопствовал. Куда деваться, одел я ярмо его, а потом гляжу — чем больше гнусь, тем сильнее в кабалу залезаю. Взял и убег. Сначала за Волгу, потом через Камень[94] в степь, попал за рубеж да и угодил из огня в полымя… Спасибо вот добрый человек вызволил.
Недолгая тишина установилась. Василий задумался, как поступить. Несвободные люди, бежавшие в другие княжества, должны непременно выдаваться прежнему хозяину за твердое вознаграждение — два рубля. Услышав об этом, Сот тоже повалился к ногам великого князя.
Василий подозвал дьяка Ачкасова:
— Зачти, Тимофей.
Дьяк достал нужный пергаментный свиток, развернул его и огласил:
— «Холопа, раба, татя, разбойника, душегубца выдавать по исправе…»
— Как — «душегубца»?! — перепугался Сот.
— Значит, так же, как душегубец, должен быть передан в Ярославль.
— Но я же пять лет в бегах!
Ачкасов бесстрастно объяснил:
— «Холопу и рабу суд от века».
— «От века»? Бессрочный, значит?
— Да, кто холопом родился, тот холопом и умрет, если долгов заплатить не умеет, — объяснил Максим, а Василий знак рукой сделал: «Разобраться!»
Сот отошел в сторону, встал рядом с Кожухом, а Иван Кошка успел подмигнуть ему: «Не робей!»
— Я полный челядин, — начал рассказ следующий пленник, — и жена моя полница, и сын с нами. Вся холонья семья наша беглая, потому как…
— Довольно! — Максим повторил слово великого князя, но только голосом увещевательным, а не жестким. — Беглые возвращаются хозяину по два рубля за голову.
— Как «два», как «два»? Я за эту семью восемь рублей заплатил, да потрава какая еще, — всполошился фрязин. Но тут же два стражника по знаку Максима негрубо, но властно взяли его с двух сторон за рукава шелкового, расшитого золотом халата. Теперь только окончательно осознал он, что понимает далеко не все из происходящего.
Василий усмехнулся.
— Не умирай раньше времени, фрязин Сколько же ты за других платил на невольничьем рынке?
— Вот за этого холопа с женой три рубля… А этого холопа тоже с женой — за пять… Цены все уреченные, как сговорился, так и платил…
Покончили с беглыми, начали пытать всех остальных холопов, людей потяглых, несвободных. Были среди них приданные, купленные, были играмотные, перешедшие к другому владельцу по писаной грамоте. Но попался один холоп-вотчинник, бывший слуга боярский, отпущенный и вознагражденный за верную службу. Были среди холопов бортники, садовники, псари, рыболовы, повара, хлебники — умелый, к труду приученный, нужный в княжестве народ. Лишь один попался изжившийся, ветхий денми, на вопрос, какой нынче день, ответил:
— Не знаю.
— А месяц?
— Кто же его знает…
— Ну, а год-то хоть какой?
— Должно… Нет, не знаю.
Видно, остановилось для него время, не ведет он ему счета. Однако же не все на свете перезабыл. Когда Максим сказал, какой год от сотворения мира идет сейчас, озарился:
— Значит, сто лет нам жить осталось!
Дошел черед до крестьян. Это были люди вольные, платившие князьям, боярам или монастырям натуральный оброк. Они и держали себя иначе, не суетно, говорили рассудливо, обстоятельно.
— Ельцовские мы, — рассказывал Огонь Посельский. — Трудная жизнь на порубежье. Монахи и те утекли в дальние леса. Да и то бывало: отдыхает чернец после утрени, вдруг будит его страшный вой — то татары обитель божью грабят. А страдному хрестьянину вовсе невмочь. Выедет пахать — невесть откуда хищные степняки налетят, того и гляди, оратая самого убьют. А не убьют, так вот, как нас, в полон заберут… Увезли татары сначала в свои вежи, потом в Кафу… были вольные хлебопашцы, ржу сеяли, три поля держали, да вот рабами изделались.
Судьбы других страдных крестьян были схожими, только один — Яков Черт — бедолагой оказался, не зря, знать, такое прозвание получил. По его словам, стал он сошлым крестьянином из-за того, что вынужден был сойти с земли стародомной, плохо уже родившей. Задолжал оброк боярину, по нечаянности (по его же словам) татем стал. За это из крестьян вольных определили его в холопы, а за повторное воровство (опять нечаянное!) уж и в неволю продали.
Попался и один литовский крестьянин — Кирей Кривой, который бежал от Витовта и хотел бы жить в Москве.
— Я куплю тебя у тестя, — пообещал Василий, — о цене мы с ним сговоримся.
— А со мной? — не выдержал фрязин, видя все яснее, что дела его купеческие как-то не так поворачиваются.
— С тобой? — переспросил в задумчивости Василий. — С тобой уж и не знаю, как рассчитываться. Ты, выходит, не только за русских пленников хочешь барыш иметь?
— Не только, не только, великий князь! — засуетился опять не в дело фрязин. — Сейчас позову другостранцев.
Оказалось, что перекупил фрязин и два десятка иноземных пленных. Василий разглядывал их, пытаясь понять по лицам, кто они, откуда, с какими судьбами. Вот тот, с горбинкой на носу, небось потомок Биргера, которому князь Александр собственноручно «наложил печать на лицо». Про того, у которого лицо желтое, как дыня, и глаза щелками, гадать нечего. А в рыжем красномясом рабе немчина угадать нетрудно. Этот, с римским профилем, итальянец, очевидно. Вот ведь как: шведы, пруссаки, монголы, римляне — рабы!.. А купец-фрязин — работорговец, вот ведь как! Римляне в своих рабов превращали прусских «варваров», арабы заковывали в кандалы эфиопов, иудеи ниже себя считали всех необрезанных, татары свиньями называют любых «неверных»… А фрязин всех без разбору взял и пригнал, как стадо животных, к великому князю московскому, вот ведь как!.. И что же Василию Дмитриевичу с ними делать?
Решение подсказал один из пленников, о котором Максим спросил наугад, без выбора:
— Сколько ты за него заплатил, фрязин?
— Это кузнец Вяйнямаринен, очень сильный, видишь, кулаки у него, как кувалды, такие в большой цене.
— Сколько же?
— Просили двенадцать, я сторговал за девять рублей.
— Неправда! — сердито воскликнул кузнец. — Он два медных дирхема[95] отдал за меня, сказал, что больше денег не имеет, а степняк, который меня пленил, боялся погони или сам за кем-то гнался…
Фрязин потрясенно смотрел на кузнеца, наконец совладал с собой и посунулся к креслу, в котором сидел Василий:
— Великий князь! Это обманщик! Он ни слова по-русски не понимал… Сейчас вот решетом солнце ловит.
Максим вложенным в ножны мечом отстранил фрязина в сторону, сказал сурово:
— Это ты нам Москву в решето показывал, а он правду говорит.
— Тутто пердутто! — воскликнул фрязин, окончательно поняв, что дела его плохи.
И тут Василий признал его.
— А где же твои очи нарочитые?
— Как тогда в Москве на пожаре потерял, так и хожу, как крот, слепой, а сослепу-то долго ли проторговаться…
Максим снова отстранил его от князя, подтолкнул вперед кузнеца. Тот, застенчиво улыбаясь, отвечал:
— Я по роду-племени карьяла, ну и притворился, будто, кроме своего языка, ничего больше не разумею… Обманщик и я, выходит. Родился на погосте в Обонежском ряду, там и жил безвыездно. В прошлое лето шведы вошли в Неву, стали грабить села по обоим берегам, много людей пленили, и он под их руку подвернулся.