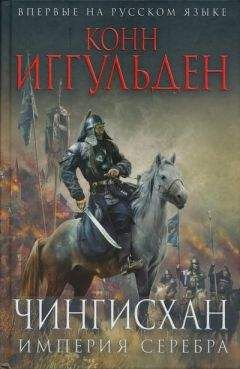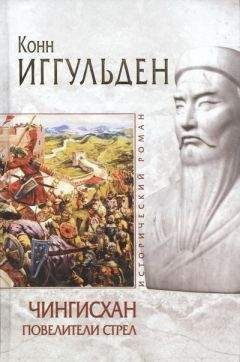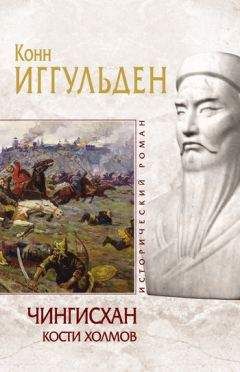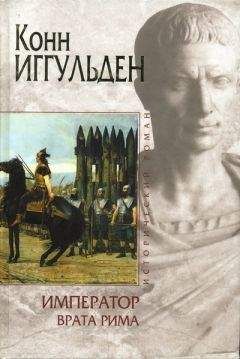Ольга Приходченко - Одесситки
— Та разве ж всех упомнишь.
— А поляк возьми да помри. Так одна двоих и тянет. В мясном корпусе на Новом рынке санитаркой вкалывает. Вот и вся красота. Вот только странно, зачем ей столько женских вещей понадобилось? Целый гардероб. Не иначе кто-то попросил, она у них вообще дура безотказная. И зачем ей срочно брат понадобился? И зачем я свой язык распустила на всю катушку? Просила же Анна никому ничего не говорить.
Жанночка покраснела, еще крепче обхватила обеими руками свой животик и медленно поднялась наверх, в свой брошенный отдел, где на прилавке одиноко стояла табличка «Переучет». К концу рабочего дня в магазин забежал взмыленный Леонид Павлович. Жанночка ему в ухо быстро что-то нашептала, и он моментально удалился. Вскоре пришла и Анна, с братом буквально в минутах разминулись, она, как и обещала, вернула долг, не проронив и слова, но по её осунувшемуся лицу Жанночка поняла, что случилось что-то серьёзное. Теперь только муж расскажет ей, а может, и нет. Он такой, что никогда ничего лишнего не сболтнет. Так и вышло. По его внешнему виду Жанночка поняла, что лишних вопросов сразу задавать не следует. Муж выпил две рюмки водки, закусил Доркиным холодцом и лёг спать.
Леонид Павлович сидел в своём кабинете, нужно было сосредоточиться. Написать и отправить бумаги по уголовному делу, однако ничего не получалось. Мысли постоянно возвращали его к Соцкому, его жене и их сыну. Война давно закончилась, а горе продолжает преследовать людей. Сколько горя этого ещё бродит по белому свету? Не сосчитать. Какое уголовное дело ни возьми — там всегда есть она, война — изначальная виновница. Иногда эта тварь вроде и рядом пройдёт, только лёгким ветерком коснётся, но от этого ветерка через годы такой ураган образуется или смерч, который всё сметает на своём пути. Бедная Анна, сколько её ещё будет терзать эта проклятая война.
Дверь в кабинет приоткрылась: «Лёнь, к начальству с докладом вызывают». Леонид Павлович сгрёб бумаги со стола, затушил папиросу в пепельницу, уже полную с утра. Выпил стакан воды из графина и пошёл на доклад к начальнику. В кабинете Ивана Васильевича, полковника милиции, всегда было прохладно и свежо. Сам он не курил и другим не разрешал курить в его присутствии.
— Проходи, Леонид Павлович! Ты что сегодня с дежурства, не спал?
— Нет, я дома ночевал, сегодня дежурю.
— Как супруга себя чувствует? Нужно ее в клинику заранее положить. Второй раз рисковать в таком деле нельзя, сам понимаешь.
— Спасибо, Иван Васильевич.
— Ну, давай докладывай, что накопал?
Старший оперуполномоченный медленно, по своей привычке останавливаясь на всех мелочах, детально доложил, что удалось установить по данному делу.
— Не густо, да и без энтузиазма, на тебя это не похоже. Или сомневаешься в чём? — Начальник подошел к старшему оперу и стал за его спиной. Вот таким был бы его Сашка, его единственный сын. Когда этот молодой парень сидел за столом, ему всё время хотелось подойти и обнять его, крикнуть: сынок!
Леонид Павлович поёжился, повернул голову, хотел встать, неудобно как-то сидеть спиной к полковнику.
— Сиди, так сиди, сынок. Как дела у тебя?
Молодой опер опустил голову: сказать или не сказать, этот не сдаст. Да и не будет потом разговоров, что утаил, не доложил...
— Иван Васильевич! Товарищ полковник! В моей семье, ну не совсем в моей, в общем, я вам всё расскажу.
— Говори. Лёня, из этого кабинета ничего не выйдет.
— Вы же знаете, что отец ушёл на фронт, а мы остались в оккупации. Из квартиры, где мы жили, пришлось бежать, там все знали, что отец коммунист, депутат, а меня он назвал при рождении Лениным.
— Как? — полковник улыбнулся. — Лениным?
— Да, такой мой батя во всём, у нас вся семья такая.
— Это точно, с твоей матушкой я, слава богу, познакомился.
Он вспомнил, как пожилая женщина доказывала ему, что её сын, раз дал слово, женился, родил сына — значит, обязан жить в этой семье и заботиться о ней. Иначе он ей не сын, её сын подлецом быть не может, и тем более в милиции ему не место служить. Так тогда переубедить её ему и не удалось. Собственная мать сняла с погон сына звёздочку, единственный раз такое произошло в его жизни.
— Ну дальше, раз начал.
— Так вот, мы ночью бежали на Молдаванку и жили всю войну на Средней. Наша комната была нал старым заброшенным холодильником, а через него можно было попасть в катакомбы. Нас туда матрос отца поселил, этого матроса румыны поймали и расстреляли в начале 42-го.
Сначала забрали старшую сестру Анну, на работу их погнали восстанавливать Пересыпскую дамбу. В ноябре месяце, в ледяной воде, так там все и остались, а Анна сразу поняла, что это смерть и убежала. Как ей удалось бежать, она и сама не представляет, говорит, всевышний помог. Но мы с матерью ничего не знали, ждали, что она вернётся. Мать пошла на базар обменять своё колечко, чтобы нас троих покормить, мою младшую сестру, ей было шесть лет, и Анькину дочку пяти. На базаре какая-то баба узнала мать и стала орать, что это жена коммуниста и сама коммунистка. Румыны мать здесь же арестовали, а той сексотке полагалось поощрение за сотрудничество. Потом её, правда, обнаружили в уборной на базаре с перерезанным горлом — досотрудничалась.
Там же, на рынке, был сарай, в котором содержались арестованные. Утром их выводили по три человека с табличками на шее «Партизан» и вешали, заставляя людей смотреть. В основном там были раненые моряки, которых оставили защищать Одессу. Бежать они не могли, да и некуда было. А мою мать арестованные хлопцы пожалели. У них был вырыт лаз-подкопчик, и они вытолкали маму вместе с мальчишкой, моим ровесником. Правда, когда они ее проталкивали, левая рука вывернулась на спину, так она и прибежала с пацаном домой и рукой на спине.
Больше на улицу она не выходила, везде бегал я сам. Мы с этим пацаном собирали пустые консервные банки и делали из них светильники, потом продавали на базаре. Так и жили, а уж потом я узнал, что в городе остался мамин племянник Борис. Он возил директора завода, так до последней минуты тот распоряжался машиной, а потом исчез, сказав дядьке, что остаётся на нелегальном положении и его разыщет или к нему придут по паролю. Борис всю оккупацию ждал, но так никто и не пришёл. Сами, как могли, крутились. Можно сказать, вербовали румын на свою сторону. Дядя Боря пристроился работать к одному румыну в бадэгу, прислуживать гостям. Я тоже там крутился, стаканы мыл, столы протирал. С румынами старались подружиться.
Одного такого «офицера» румына Борис вином подпаивал, продолжал Леонид Павлович. Деревенский, малограмотный парень, за Одессу ему офицерский чин присвоили. Объяснять ему, что Одессу 72 дня обороняли и фигу бы они её захватили, если бы не приказ Сталина: оставить город, а Приморскую армию тайно эвакуировать морем. Он думал, что так и дальше будет и наши города посыплются им на блюдечке с голубой каёмочкой. Да не тут-то было. Как выпьет, так и твердит: «Севастополь возьмём, конец войне. Мне земли там дадут, я у моря хочу получить свой надел». Борис ему всё поддакивал, а я нашёл на помойке старый разбитый глобус и показал румыну: «Вот твоя Румыния, Бухарест, вот Одесса, вот Севастополь, а это Москва, а вот это ещё весь Советский Союз, аж до самой Японии». Он пальцем тыкал, искал всё Японию. «А это твоя Германия, вот она, видишь, маленькая, как вошь кусачая, нажал пальцем, как задавил Берлин».
Борис потом вспоминал, как он чуть не обделался от моих слов. А пьяный румын всё крутил глобус, видно, первый раз в жизни карту видел. Так всю ночь пил и крутил. Под утро Борис мне говорит: «Тикай, Лёнька, может, ты уцелеешь! Ты в семье за старшего — запомни и моих не выдай». А через два дня дядя Боря на мотоцикле с румыном к нам на Среднюю подъехал. Парень, хоть и деревенский, но всё правильно понял. Он-то и помог выправить нам документы, так из Ленина я стал Леонидом. Потом все через нас уже обращались к нему с разными просьбами. Когда сестра дала о себе знать, этот румын с Борисом поехали и забрали ее, ходить она долго не могла. И маме врача он привёз, руку ей вправили, но она всё равно сгорбилась, вы ж видели. А потом он прощаться пришёл, отправляли его, как он сказал, землю получать, брат уже «получил», теперь его очередь. Икону принёс, чтобы ею мать покрестила и молитву прочитала, не поверите, все мы плакали, когда его провожали, как своего. Бадэга закрылась, хозяина тоже мобилизовали, кончилась их лафа. Борис почувствовал хвост, пришлось его спустить в катакомбы.
СОЦКИЙ
— В декабре 42-го мы еле тянули ноги, работы никакой, того и гляди, заберут. Анька случайно познакомилась с дядькой, который работал в частной пекарне, и тот её пожалел, взял на работу. Фамилия мастера была Соцкий Иосиф Степанович, вот, собственно о нём, вернее, о его семье, я хочу, товарищ полковник, с вами посоветоваться.
— Я слушаю тебя, сынок, — Иван Васильевич много за свою жизнь знал историй, но доверие этого молодого опера его поразило. Мог ведь и не говорить про дружбу с румынским офицером, с самым настоящим врагом.