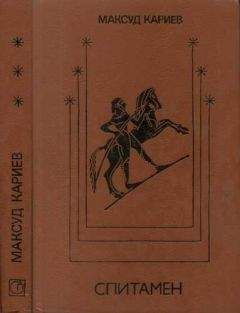Андрей Косёнкин - Крыло голубиное
Ночь вошла в силу, а все же не прогнала тепла. Редко на Руси такое бывает, только после Петрова дня, да и то не во всякий год. Ночные светила изузорили небо диковинной, чудной резьбой, в знаках которой, сказывают, дал Господь много смысла для каждого. Знать бы, что там приуготовлено ему, Михаилу, что обозначено? Да не дано, как по книге, читать Божьи знаки…
Михаил вздохнул, опустив глаза.
— Поспал бы ты, княже, помогай тебе Бог, — присунулся сзади воевода Помога. Уже не один час ходил он за князем тенью, то и дело сокрушенно вздыхая у него за спиной, как усталая лошадь.
— Или ты мне постельничий? — строго спросил Михаил.
— Так ведь едино до света ничего не развидится, поспал бы…
— Молчи.
Но Помога уж закусил удила.
— Так жалко, — быстрым говорком церковного нищего запричитал он, — все ходишь, ходишь, а княгиня-матушка мне наказывала…
— Ты что, али оглох, Помога? — тихим и потому страшным, звенящим в ночной тиши голосом спросил Михаил.
— Так я ж…
— Ступай себе.
— Не ослушаюсь, помогай тебе Бог, — проворчал воевода и вздохнул. Однако не ушел, как было приказано, и через некоторое время осторожно сказал опять: — Хоша ты и гони меня, князь, слугу твоего, а я все одно скажу… — Он выждал еще и решительно добавил: — Не об тебе забочусь — об деле.
Михаил остановился и удивленно повернул голову.
— Тебе, Михаил Ярославич, так-то впервой воевать, а на людей — не на медведей идти: много крепости нужно.
— Али не крепок? — спросил Михаил.
— Не о тебе речь, — схитрил Помога. — Народ за тебя бережется.
— Как так? А ну поясни!
— Людей-то много, не знаешь, что у кого в голове, а все видят — не спит князь, знать, худо ему, трепещет…
Михаил так взглянул в темноте из-под низко надвинутой шапки, что Помога отшатнулся, но все же докончил опять притворной сиротской скороговоркой:
— Князю — покой, дружине — веселье.
— Ну-ну, — повторяя княгиню, проговорил Михаил и вдруг железно стиснул пальцами руку Помоги. — А сам-то как думаешь, а, Помога? — спросил он страстным, горячим шепотом, как в детстве спрашивал у боярского сына про разные страхи.
— Истинно тебе верю, княже, — тоже шепотом ответил Помога Андреич. — Я так думаю, что не о чем тебе беспокоиться, сюда придет Дмитрий, более ему некуда. — Даже во тьме было видно, как он улыбнулся. — Верно ты угадал, помогай тебе Бог!
— Ладно, ступай уж. — Князь выпустил воеводину руку и усмехнулся: — Хитрец ты, почище татарина.
— А напрямки-то тебя не обскачешь, — довольно согласился воевода и тут же опять застонал: — Приляг, князь!
— Лягу, только уйди, — махнул рукой Михаил и добавил: — В возке пусть постелют.
Воевода исчез в темноте.
Перед возком Михаил еще раз вгляделся в небо, невольно перекрестился на звезды, мерцавшие в вышине необъяснимым вечным загадом. Потом расстегнул тяжелый бронзовый пояс с серебряной пряжкой, вынул из тонких, отделанных черненным серебром ножен саблю, сверкнувшую под луной кривым жалом, положил ее в головах. И только коснулся щекой мягкой, пахшей звериным теплом медведны, тут же уснул.
Кажется, так сладко, как в ту ночь в том возке, ни до, ни после уже не спал Михаил.
4
Третий день стоял великий князь владимирский Дмитрий Александрович в виду Кашина. Но в приступ не шел.
Войска все охальные слова уже прокричали друг другу, разжигая сердечную ярость. Но ярость не приходила. Тверичи, вадя свои явные выгоды, зубоскалили весело, новгородцы, устав препираться, хмуро отмалчивались, лишь изредка бережливо пускали стрелы в особенно рьяных тверских брехачей, подъезжавших на выстрел. Хоть и открыто русское сердце для обиды и много в нем горечи, но дуром и русский умирать не охотник.
Упустив волю, с утра разбитый вином, Дмитрий Александрович сидел один в полумраке походного шатра, подаренного ему великим Ногаем. Сшитые полосы бычьей кожи клином сходились кверху, пурпурный камчатый полог у входа вздымался, дыша от ветра, но в глубине шатра было душно.
В мыслях великий князь то и дело возвращался назад, к минувшему третьему дню, когда его войско вдруг натолкнулось на вражий щит.
Может, и был бы толк, кабы с лета пустил он на тверичей ростовскую конницу, позади изрядив новгородских копейщиков, как советовал Дмитрий Ростовский, да замешкался великий князь, смутил его Михаил. Теперь же только и оставалось рвать в тоске волоски из длинной прядастой бородки, и без того не густой…
Годами Дмитрий Александрович подходил к сорока, а видом был полный старец. Если бы принял схиму, как уж думал он о том не однажды, изрядного образа получился бы черноризец. Глядишь, в молитвах бы и страсти утишились, и злоба б с души отпала, ведь не ищет душа его злобы! Видит Бог, не зла он хотел, когда по смерти младшего из Ярославичей Василия Костромского[25] занял владимирский стол. И никому в голову не пришло с ним тогда спорить, потому что по чести он его занял. Так нет же, родной брат позлобствовал! С тех пор и тянется Русь в разные стороны. Уходит власть меж пальцев, как речная вода.
Нет ему счастья в княжении — уйти бы! Да некому оставить великий стол. Младший Данила и рад бы под свою Москву всю землю прибрать, да с детства Андрея боится, в рот ему смотрит и поперек не пойдет ни за что; сын Иван молод и слабодушен — из Переяславля ни единого ратника отцу не прислал; а уж коли Андрей вокняжится, как, видно, того татары хотят, кровью зальется Русь. Так что, пока живет его братец рядом на этом свете, нельзя ему в монастырь. Не зверь он, Андрей-то, — зверь чужой муке не радуется. Верно, такой русский князь и нужен Орде, чтобы уж не поднялась больше Русь.
Дмитрий Александрович простонал в голос от тягомотной одинокой тоски, сжал виски кулаками, пытаясь утишить боль, которая в последнее время все чаще приходила к нему, наваливалась удушливой бабьей тушей, сковывая волю, сердце, всего его то страхом, то безразличием, то отчаянием от невозможности хоть что-нибудь изменить.
Да разве есть она, власть великая княжеская, если он, Дмитрий, гроза Дерпта и неприступного Раковора, в своей земле встал перед кашинской крепостью, побежденный до боя?! И кем? Кто обошел его? Мишка! Ярославов последыш, щенок Оксиньи, малец! Окаяние какое-то! Всю жизнь пуще смерти сраму боялся, а срам-то, как вонь животная, за ним по пятам идет…
Морщась и сильно ходя кадыком при каждом глотке, Дмитрий Александрович отпил из серебряной чаши и передернулся телом. Кисло вино у фрягов, даром что дорогое…
Да, опять обнесли его переметчики! И что на дальних-то сетовать, когда главный из них — брат родной. Кабы птицей перелететь теперь в Городец, удавил бы отступника, как удавил боярина Семена Тонилиевича, его первого думника…
Великий князь перекрестился на образа. От одной только памяти о смерти ненавистного боярина, случившейся пять лет назад в Костроме, ему стало лучше.
В шатер по-кошачьи, неслышно вошел ростовский князь и молча остановился.
— Чего? — поднял глаза Дмитрий Александрович.
— Мишка-то послов твоих прогнать велел…
Дмитрий Александрович пухлой белой рукой невольно опрокинул чашу, глухо упавшую на пол.
«Смеется он, что ли?»
Нет, Дмитрий Борисович стоял понуро, всем своим видом выказывая участие.
— Как это, прогнать? — переспросил Дмитрий Александрович, будто еще не понял.
— Не допустил до себя, — усмехнулся ростовский князь. — Я князь, говорит, и с княжьими холопами не след мне и дело знать.
Дмитрий Борисович замолчал, отсутствующе занявшись невидимыми пылинками на рукаве кафтана.
— Дальше, — поторопил его великий князь.
— А что ж дальше, — поднял на великого князя светлые, невинные глазки Дмитрий Борисович и вздохнул. — Коли, говорит, великий князь ко мне в гости пожаловал, так пусть сам и идет нужду сказывать.
Дмитрий Александрович задохнулся словами:
— Щенок! В приступ его! Убью…
Слегка пошатнувшись, он резко поднялся с походного резного стольца, доставшегося ему от батюшки.
— Я сказал, в приступ его!
Дмитрий Борисович развел руками в ответ:
— Да я бы, великий князь, хоть сейчас наехал на него со своей дружиной. Обижен я на Михаила за Кашин-то. — Дмитрий Борисович помедлил и тихо добавил: — Видишь ли, Дмитрий Александрыч… новгородцы воевать не хотят.
Великий князь дернул шеей, внезапно сведенной судорогой, и на мгновение стал похож одновременно и на отца, и на брата Андрея.
А Дмитрий Ростовский так же тихо продолжил:
— Ране надо было идти, говорят. А теперь уже поздно. Не пойдем, говорят, в тверские клещи зазря помирать.
— Дети блядины… — в сердцах выругал новгородцев великий князь, благо, кроме ростовца, в шатре иных не было. Кто-кто, а Дмитрий-то новгородцев-то знал, всю жизнь ими правил, не в один поход их водил.