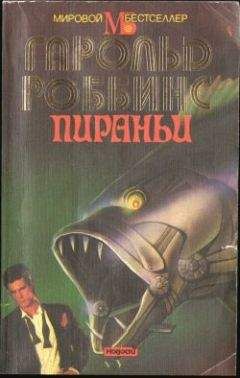Н. Северин - Перед разгромом
Говоря это, Аратова прикасалась крючковатыми пальцами к пуговицам гостя, щупала бархат его кафтана, перебирала брелоки, украшавшие его часовую цепочку, и вскидывала на него острый взгляд своих пронзительный глаз. Ему становилось жутко под этим взглядом, но, вспомнив рассказы старика на переправе, он сообразил, что золотокудрая красавица — не кто иная, как жена молодого барина, правнука этой старухи. Поэтому он подавил отвращение, внушаемое ему старой ведьмой, и, с вниманием прислушиваясь к ее речи, мысленно молил Бога, чтобы она не догадалась о причине его терпения.
Удалось ли ему провести старуху, или просто потому, что она обрадовалась случаю поболтать с чужим человеком, но она дала полную волю языку и любопытству, пересыпая рассказы о старине расспросами о том, что происходит в петербургском свете, из которого она удалилась более полстолетия тому назад.
— Мода у вас теперь, верно, драгоценностями себя увешивать. В наше время все это в ларцах под спудом хранилось и только при особых случаях вынималось, потому и цело было. Много изрядных штучек найдется здесь и после моей смерти. Да-да, дождаться бы им только, чтобы Серафима Даниловна дышать перестала, много им добра останется, — распространялась она, видимо, напав на любимую тему. — Статуй у меня есть тальянского мастера, такого знаменитого, что цены тому статую нет. Мне эту штуку привез в подарок из тальянской земли за услугу князь Василий Репнин. Теперь сынок его в важные люди вылез. Слыхал, верно? Царским послом в Варшаве?
— Имею счастье быть лично знакомым с князем Николаем Васильевичем Репниным и незадолго до выезда из столицы видел его у графа Воронцова, — ответил Грабинин.
— Это у Романа, что ли? Дочь его Катеринка, что за Дашковым, немало набедокурила после кончины императрицы Елизаветы Петровны, моей благодетельницы, царствие ей небесное! Ну, да это — не твоего ума дело: молод ты, чтобы о поступках высоких особ судить, — поспешила Аратова оговориться, и, не давая гостю объяснить, что он упомянул не про графа Романа, а про графа Михаила Воронцова, канцлера, она продолжала: — Расскажи ты мне про Репнина: зачем его в Питер вызвали, когда он должен в Варшаве сидеть да за кознями поляков следить?
— С донесениями к государыне приезжал.
— То-то с донесениями! Не донесли бы на него про его шашни с красавицами. Чарторыского Адама женка, Изабелка, говорят, веревки из него вьет. Довольно это обидно про русского вельможу слышать! И с коих пор дьявол нас этими полячками в соблазн вводит! Еще при Святополке Окаянном преподобный Моисей Угрин через полячку в заточении мученичество принял. Красавец был такой же, как и твой дед, а полячки на мужскую красоту так же падки, как и на деньги, и на наряды. Распалилась та полька до исступления и целых пять лет искушала его в темнице свободой, сокровищами, почестями, чтобы только он в любовную с нею связь вступил. Воздержался, однако, праведный муж, и за такой подвиг после смерти к лику святых причтен. Молятся ему теперь от польского соблазна, и, говорят, помогает. В былое время советовала я и деду твоему сходить пешком в Киев, мощам преподобного Моисея Угрина поклониться, не послушался — и вот половины состояния да рассудка лишился: совсем помешанным скончался. Твержу я и моему Митяйке: «Не вожжайся ты с этими иезуитками, вспомни про святого Моисея Угрина да про соседа нашего Грабинина!» И Репнин попался. Я Репниных давно знаю, как еще в девках была! Тогда царь Петр Алексеевич Россией правил, а Никита Репнин при нем верным помощником был. Умен был. Ну, да царь Петр при себе дурака не стал бы держать. Вместе шведов колотили. Внук-то, по всему видать, попроще вышел, да по нонешним временам и такой за умницу сойдет. Однако и он больше пользы принес бы отечеству, кабы не немецкое воспитание. В басурманских землях учился против русских врагов воевать! — прибавила она с презрением. — А деда его мне грех поминать лихом — каждый день во дворце встречались и друг другу супризы делали. Что там еще? — прервала Аратова свою речь, чтобы обернуться к пологу, слегка заколыхавшемуся в ногах кровати, где, по-видимому, была беззвучно растворившаяся дверь.
Полог чуть-чуть раздвинулся, и в образовавшемся между складками отверстии появилось бледное женское лицо с прямым носом и впалыми, беспокойно бегающими глазами.
— Молодая барыня барчука из флигель к себе унесла! — задыхающимся от волнения шепотом проговорила она. — Заперлась.
— Пошли Дарью! — отрывисто приказала старуха и, когда лицо скрылось, снова обратилась к своему посетителю. — Я с государыней Анной Ивановной в дружбе была. Другие ее любимца, Бирона-проклятика, боялись, а я — ни крошечки, за то он меня и уважал. Все от человека зависит, как себя поставить. Другие дрожма дрожали перед царем Петрим, а мне он вовсе не был страшен. За смелость он меня и любил. Я бедовая была: самому царю перечила, не пошла за того носатого, которого он мне сватал, а сама выбрала себе мужа. Из всех моих детей и внуков один только правнук Митяй в меня уродился, хитроумный и отчаянный. Чай, про стычки его с Орловыми слышал? Из-за своего озорства должен он был царскую службу оставить. Невозможно ему стало с Орловыми в столице оставаться. До драки уже между ними доходило, и порядком-таки они ему ребра помяли: ведь их пятеро, и все друг за дружку стоят, а наш-то — один. Все из-за баб. Охочь до баб, разбойник, особливо, до чужих. Махался с одной красоткой Григорий Орлов, и совсем на лад у него с нею шло, а наш тут и подвернись, да так к ней подбился, что она от Орлова к нему и перебежала. Ну, и враждуют теперь Орловы с Аратовым не на живот, а на смерть, всякие подвохи друг под дружку подводят. Между прочим, прознал наш ловкач, что приспешники Орловых хлопочут у государыни приказ, чтобы его из столицы выслать. Тут уж он решил совсем царскую службу бросить. «Сам себе буду царем, — говорит, — и, чем мне разным там, что в случай попали, кланяться, добьюсь того, что мне поклонятся». И ведь добился, разбойник. Приехал сюда и начал в здешнем крае орудовать. С поляками снюхался — подружился с озорником Браницким, сумел и Чарторыским и Потоцким угодить. И нашим, и вашим, значит. «Что мне за дело до их ссор? — говорит. — Мое дело — сторона». Шагу теперь не ступят, чтобы с ним не посоветоваться. Есть здесь один магнат поумнее других, Сабезием Потоцким звать. Не по себе умен, а главным образом через жену. На редкость умная баба, Анной звать. Мужем вертит, как следует. С русскими они не враждуют, к пустым затеям не пристают и даже хозяйство свое ведут с толком. Киевским воеводой он теперь, и у Митяйки нашего большие с ним дела затеяны. На самой, можно сказать, границе с Польшей мы живем, и спокон века у нас с полячьем хлопоты да докука. А наш Митяйка в дружбу с ними вступил и так сумел их околпачить, что пани Анна надоумила мужа их королю его представить. Оно, положим, большой чести в том нет — каким был слюнтяем этот наш ставленник [1], таким и остался, а все же в здешнем крае это полезно; иной жид на все, что угодно, пойдет от восторга, что с ним ведет дело такой боярин, который в королевский дворец вхож. Да и поляки попроще думают невесть какую протекцию через нашего Митяйку у короля себе раздобыть и всякое уважение ему из-за этого оказывают. А важные магнаты, те тоже из-за своих выгод стараются друг перед дружкой на свою сторону его перетянуть, потому что он и с русским послом в дружбе. И вот катается здесь наш Митяйка, как сыр в масле, начал даже и самого короля в руки забирать. По бабьей части, верно, сумел ему угодить. Тоже бабник. Еще раньше вместе блудили, как Понятовский в Питере польским послом был. В то время у него, конечно, такой важности не было, как теперь, а нутром он все тот же остался, и Митяйка сказывал, что, кроме толстого брюха да обвислых щек, никакой перемены он в нем не нашел. Не больно хорошо ему королем-то живется: магнаты в ежовых рукавицах его держат, жениться не дозволяют, во всем усчитывают и стращают выгнать, если вздумает им перечить. Сам он Митяйке жаловался, что только для вида ему почет оказывают, а на самом деле, куда вольнее и счастливее ему раньше жилось. «Ты, — говорит, — несравненно счастливее меня, и я с радостью с тобою местом поменялся бы. Ты, — говорит, — господин твоего положения, а я — раб его». Митяйка наш смеется на это. «Кабы, — говорит, — я на его месте был, всем сумел бы показать, что такое заправский король значит, и все у меня по струнке ходили бы, а он на моем месте дальше прихожей с паюками никуда в королевском дворце не дошел бы». Все от человека зависит, — повторила Аратова свое любимое изречение: — Один умеет уступать, а другой — брать. Кабы каждому было дано на своем месте твердо стоять, никому вперед и не пробиться бы; на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Митяйка эту механику отлично себе усвоил и прет вперед да вперед, а прочие все перед ним только расступаются, — с самодовольствием распространялась она, видимо, восхищаясь ловкостью, умом и беззастенчивостью любимого правнука. — До него в здешнем крае никто из русских дворян такой силы не набирал. И ему пророчили, что католики его съедят. Ан не съели, а он их помаленьку грызет да обгладывает. Такие ловкие дела на контрактах обделывает, что надо только дивиться. Вот только женитьбой опростоволосился.