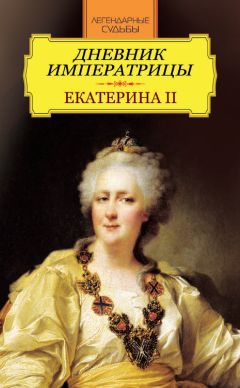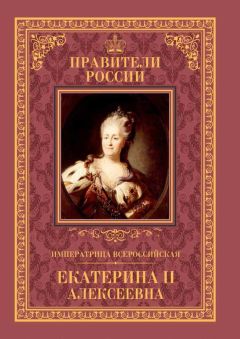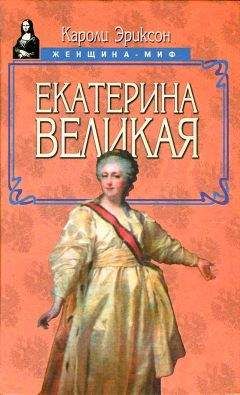Валентин Лавров - Катастрофа
Юлий неопределенно мотнул головой. Бунин продолжал:
— Ведь понадобится кто-то такой, кто должен распределять земные блага. И вот эти самые люди — хотим мы того или нет, себе станут оставлять больше, и своим друзьям, близким, любовницам, приятелям, устраивать их на высокие должности, выделять из общественного достояния дома побогаче. И опять пойдет по-старому. Только прежние правители имели опыт, а эти начнут на ходу учиться да за власть еще будут цепляться. Раз есть борьба за удержание власти, значит, будут новые и новые жертвы.
Юлий упорствовал:
— Исходя из этого, борьба за свои права — бессмысленное дело?
— Вполне, если это терроризм, убийства, разгул толпы, жестокость. Бороться надо только с собственными недостатками, да самому поступать честно, никогда не врать, не обманывать. И работать изо всех сил на том поприще, на какое тебя Бог наставил.
— Хуже, чем при царском деспотизме, не будет!
— Сомневаюсь! И повторю: либералы и радикалы жизнь больше по книжкам знают. Вон Мережковский как-то признался, что он толком не разбирается, чем пила от напильника отличается. А ведь тоже в «учители народа» лезет. Жизнь, как природа, сама себя устраивает наилучшим образом. Горящие усадьбы в деревнях, жертвы в Питере — это все результаты либеральных бредней, насильственной ломки сложившегося веками. И дай Бог, чтобы Россия, расшатываемая «прогрессивными» деятелями, не залилась кровью выше церковных маковок.
Юлий хотел горячо возражать, но сдержал себя, нервно раскурил папиросу.
Бунин нежно обнял брата за плечи, похлопал по спине:
— Вспомни, с какой остервенелостью на меня бросалась «передовая» критика! Она обвиняла меня в том, что я гляжу на жизнь слишком неоптимистично, будто изображаю народ исключительно черными красками. А ведь вся эта критика, как и большая часть российской интеллигенции, вскормлена и вспоена той самой литературой, которая уже лет сто позорит все классы. Ей, этой «обличительной» литературе, не по нраву попы-пьяницы, кулаки-мироеды, мещане с геранью на подоконниках, взяточники- полицейские, помещики-кровопийцы, дворяне-узурпаторы. Зато они себя величают «глашатаями свободы», «борцами за народное счастье». Под народом они, конечно, разумеют горьковских босяков, челкашей различных мастей. Эти челкаши им ижицу еще пропишут!
Бунин поднялся, по-горьковски ссутулился, поплевал на пальцы и как бы погладил усы. Потом, высоко взмахнув руками, окая, прогудел в нос:
— «Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей… Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. Буря! Скоро грянет буря!» Дождались бури, накаркали ее! Сам Алексей Максимович спокойно отсидится в Сорренто, а под нож пойдут все эти психопатки и бездельники, восторженно ему рукоплескавшие. Сколько же дураков на свете! И резать их будут эти самые челкаши, которых они воспевали. А как они родственны по духу! И те и другие боятся работы, как черт ладана. Лишь жаждут каких-то необычных вдохновений и подвигов…
— Но как же с высокими идеалами? — сощурил глаза Юлий. — Идея — как же без нее?
— Во-во! — подхватил Бунин. — «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой…» А сон только и заключается в том, чтобы проломить голову «буржую» и стать кровопийцами во сто раз худшими, нежели буржуй. И все время подрывали уважение к правительству, которое пыталось сохранять спокойную обстановку.
— Ну, нынешнее правительство и впрямь не заслуживает особого уважения, все эти гучковы и терещенки. Сборище болтунов, слов много, дела мало. — Кивнул, наконец-то соглашаясь, Юлий. — Тот же Милюков, к примеру…
— Милюков, может, и умен, да на свой лад. Читал бы в университете лекции, ан нет, в политику потянуло, легкой славы захотелось.
— Ты не слыхал прибаутку? Мне ее почтальон спел:
Правит с бритой рожей
Россией растерянной
Не помазанник Божий,
А присяжный поверенный.
— Николай II — для народа это все-таки «помазанник Божий». Керенские и Черновы — самозванцы неизвестного происхождения, хитростью пробравшиеся в Зимний дворец, — закончил спор Иван Алексеевич.
И, тяжело вздохнув, добавил:
— Хотя, видит Бог, так хотелось бы верить в добрые революционные перемены и в тех, кто их творит… Ведь с какой страстной убежденностью, с какими жертвами все эти фигнеры, брешковские, Савинковы стремились к своей цели! Вдруг они знают нечто, что я не понимаю?
— Жизнь покажет, — мудро заметила Вера Николаевна.
Жизнь действительно скоро показала.
КТО ПЬЕТ ПИВО…
1
23 июля, раннее утро. Сон одного из большевистских вождей — Троцкого был нарушен грохотом в дверь. Громадный сторожевой пес зашелся в злобном лае. Лев Давидович выскочил из-под одеяла — в длиннущей в цветочек ночной рубахе, засеменил босыми ногами к окошку. В этот момент дверь без стука распахнулась и влетела задыхающаяся служанка:
— Там… с ружьями…
Троцкий осторожно выглянул, бледнея и обмирая от страха. Он убедился, что бежать нельзя: дом оцеплен. Хрипло приказал:
— Открой!
И тут же заметался по комнате, со стоном приговаривая: «Все ли сжег, не забыл ли что?..» Все последние дни он жил ожиданием ареста, но теперь не мог совладать с собой: дрожали сухонькие ручки, пересохло в горле. По деревянной лестнице дробно застучали сапоги.
Начался обыск.
Начальник Петербургской контрразведки полковник Никитин, играя носками до зеркального блеска начищенных сапог, развалился в скрипучем кресле. Серо-стальные щели глаз внимательно следили за Троцким:
— Что вы, Лев Давидович, дрожите, яко лист осиновый?
Троцкий нервно сглотнул, большой кадык дернулся на тощей жилистой шее. Он хотел что-то сказать, но издал лишь неопределенный шипящий звук.
— Документы, думаете, все сожгли? Разграбили контрразведку — и концы в воду? Обыск, дескать, пустая формальность? Ан нет! Есть у нас кое-что такое, за что вы и ваши большевистские дружки будете вздернуты на виселицу. За шпионаж в пользу врага.
Троцкий с ненавистью посмотрел на Никитина:
— Вранье, провокация! Я честный человек.
Последнее искренне рассмешило полковника, и он весело расхохотался:
— Ха-ха, уморил! Ну, хватит, одевайтесь, честный Иудушка, делающий гешефты за счет России. — И повернулся к охране: — В тюрьму его!
Лев Давидович был доставлен в знаменитые «Кресты», а Никитин принялся реализовывать 27 оставшихся ордеров на аресты большевистской верхушки.
* * *
Действительно, помещение контрразведки было разграблено, многие документы унесены и уничтожены. Это случилось после того, как были возбуждены дела по обвинению в шпионаже целого круга лиц — Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Ганецкого, Парвуса и других. Из-за утечки секретной информации, последовавшей после ее передачи Временному правительству, подозреваемые сумели разгромить архив, многие обвиняемые скрылись.
Только после этого чины контрразведки спохватились: весьма забавно, но верхний этаж над их штабом занимали большевики! После учиненного погрома этаж враз опустел — больше его обитателей никто не видел.
Нагрянули на квартиру Ленина. Как ожидалось, его след уже простыл. Дома находилась Крупская. Она держалась независимо и в продолжение всего обыска оглашала окрестности криками:
— Жандармы! Душители свободы! Это вам не старый режим, вы ответите… Отрыжка самодержавия!
Удалось арестовать лишь Уншлихта, Козловского и еще кое-кого помельче рангом. Арестованная Суменсон тут же полностью признала себя виновной в шпионаже.
2
Спустя два десятилетия Никитин выпустит в Париже книгу под названием весьма точным — «Роковые годы». Он изложил свои обвинения большевикам в пору революции и протянул их дальше — по хронологии — в тридцатые годы.
Вот что он писал: «Непременное начало всех начал их системы — Че-ка советская, Че-ка, непосредственно и прежде всего вытекающая из всего учения Ленина. Она необходима, чтобы давить индивидуальные начала. Отражая его характер, отвечая нетерпимости Ленина к чужому мнению, вся «заговорщицкая» его идеология была проникнута недоверием к массам, боязнью, как бы народ, предоставленный самому себе на пути самодеятельности, не ускользнул из-под его влияния и его не опрокинул. За народом следует следить, шпионить; его надлежит взять в тиски, чтобы бить копром, принудить идти только по тому направлению, которое выбрал для всех один он, один Ленин. Сколько людей погибнет— неважно: Ленин злобен, нравственно слеп — для Че-ка все приемы хороши. Чем больше народ, тем больше Че-ка; чем ярче самодеятельность — тем глубже застенок, утонченнее пытки. Ленинская идеология — ленинская Че-ка. Она — памятник его нерукотворный.