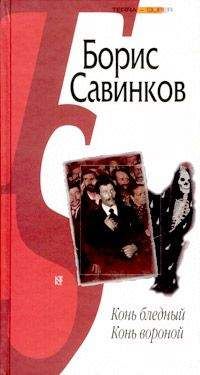Борис Савинков - Конь бледный
— Не надо этого ничего. И так убьем. Подбежать к окну, да в стекло. Вот и готово дело.
Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве и солнце жжет его смуглые щеки. Он жмурится: рад весне, Ваня, бледный, задумчиво смотрел вдаль. Генрих ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо.
Я говорю:
— Я скажу, когда продавать пролетки. Федор оденется офицером, ты, Ваня, — швейцаром, вы, Генрих, останетесь мужиком, в поддевке.
Федор поворачивается ко мне. Он доволен. Смеется:
Я, говоришь, его благородием . . . Ловко . . . Значит, без пяти минут барин.
Ваня говорит:
— Жоржик, нужно еще о снарядах подумать. Я встаю.
Будь спокоен. Все помню.
Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих.
— Жорж:.
— Ну что?
— Жорж:… Как же это … Как же Ваня пойдет?
— Так и пойдет.
— Значит, погибнет?
— Погибнет.
Он смотрит себе под ноги, на траву. На свежей траве следы наших ног.
— Я этого не могу, — говорит он глухо.
— Чего не могу?
— Да этого … чтобы он шел …
Он останавливается. Он говорит быстро:
— Лучше я первый пойду. Я погибну. Как же так, если его повесят? Ведь повесят? Повесят?
— Конечно, повесят.
— Ну, так я не могу. Как будем жить, если он умрет? Пусть лучше повесят меня.
— И вас, Генрих, повесят.
— Нет, Жорж, слушайте, нет… Неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня наверное погибнет. Главное, что наверное. Нет, Бога ради, нет …
Он щиплет бородку. Руки его дрожат. Я говорю:
— Вот что, Генрих, одно из двух: или так, или этак. Или террор, и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте и уйдите назад,
— в университет.
Он молчит. Я беру его под руку.
— Помните, Того своим японцам сказал: «Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей, которые бы разделили с вами вашу участь». Ну и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участи Вани. И не о чем плакать.
Близко Москва. На солнце искрится Триумфальная арка. Генрих подымает глаза.
— Да, Жорж, вы правы. Я смеюсь:
— И подождите еще: suum quique.
7 мая.
Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать.
— Скоро, Жоржик? — спрашивает она.
— Скоро.
— Когда?
— Четырнадцатого, в коронацию. Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза.
— Кто первый?
— Ваня.
— Ваня?
— Да, Ваня.
Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь. Она говорит:
— Когда готовить снаряды?
— Подожди. Я скажу.
Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Я смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать?
Она останавливается. Засматривает мне робко в глаза:
— Ведь ты веришь в удачу?
Конечно.
Она вздыхает:
— Дай Бог.
— А ты, Эрна, не веришь?
Нет, верю.
Я говорю:
— Если не веришь, — уйди.
Что ты, Жоржик, милый. Я верю.
Я повторяю:
— Уйди.
— Жорж, что с тобою?
Ах, ничего. И оставь меня ради Бога.
Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. Я не люблю этих женских платков. Я молчу. Тикают на камине часы. Я боюсь: я жду жалоб и слез.
— Жоржик.
— Что, Эрна?
— Нет. Ничего.
Ну так прощай. Я устал.
В дверях она шепчет грустно:
— Милый, прощай.
Ее плечи опущены. Губы дрожат.
Мне ее жаль.
8 мая.
Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем вина, если я не хочу больше Эрны. Я спрашиваю себя. Я не нахожу ответа.
Если бы у меня был закон, я бы не убивал, я, вероятно, не целовал бы Эрну, не искал бы Елену. Но в чем мой закон?
Говорят еще, — нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя: «Я взглянул, и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть». Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни, значит, нет и закона. Ибо смерть — не закон.
9 мая.
Федор продал на Конной свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом и походка у него увереннее и тверже.
Мы сидим с ним в Сокольниках, на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки. Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь.
Он говорит:
— Слышь, как по-твоему, сколько плочено вот за этот костюм?
Он тычет в нарядную даму за соседним столом. Я пожимаю плечами.
— Не знаю. Рублей, вероятно, двести.
— Двести?
— Ну да. Молчание.
— Слышь.
— Что?
— А я вот работал, — целковый в день получал.
— Ну?
— Ну, ничего.
Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени.
— Слышь.
— Что, Федор?
— А что ты думаешь, если, к примеру, этих?
— Что этих?
— Ну, бомбой.
— Зачем?
— Чтобы знали.
— Что знали?
— Что рабочие люди как мухи мрут.
Федор, это ведь анархизм.
Он переспрашивает:
— Чего?
— Анархизм это, Федор.
— Анархизм? .. Экое слово … Вот за этот костюм плочено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как?
Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова.
Я говорю:
— Чего ты сердишься, Федор?
— Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются … А эти … двести рублей . . . Эх … Бомбой бы их всех, безусловно.
Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба.
— Бомбой бы их всех, безусловно.
10 мая.
Осталось всего три дня. Через три дня генерал-губернатор будет убит. Нетленное обратится в тлен.
Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, я хочу его воскресить. Я знаю: у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера: она опять будет моею.
Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась и в Сокольниках расцветает сирень. На закате кукует кукушка Но я не замечаю весны. Я почти забыл об Елене. Ну, пусть она любит и мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.
Я так говорю себе. Но я знаю: уйдут короткие дни, и я опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованый круг. Если только уйдут эти дни…
Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа, на мокрой дорожке рядом со мной, я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто. Я свернул в глухой переулок. Он стал на углу и долго смотрел мне вслед.
Я спрашиваю себя опять: не следят ли за мною?
11 мая.
Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье у Христа Спасителя в сквере.
— Жоржик, вот и конец.
— Да, Ваня, конец.
— Как я рад. Как я буду счастлив и горд. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и… убить.
Белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит:
— Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилье тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем «не убий»? А вот нет в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай и сам сказки, сказка иль нет. И быть может вовсе не сказка, а правда. Ты слушай.
Он вынимает черное, в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тисненый позолоченный крест.
«Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе.
Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?
Итак отняли камень, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня.
Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет».
Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет:
— «Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе…»
В синем воздухе вьются ласточки. За рекою в монастыре звонят к вечерням. Ваня вполголоса говорит:
— Слышишь, Жоржик, четыре дня …
— Ну?
— Великое чудо.
И Серафим Саровский — чудо?
Ваня не слышит.
— Жорж.
— Что, Ваня?
— Слушай.
«Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб.
И видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса.
И они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.