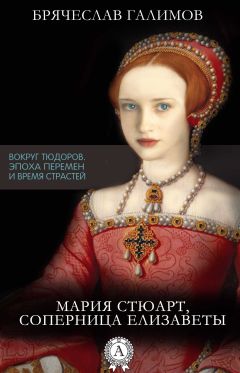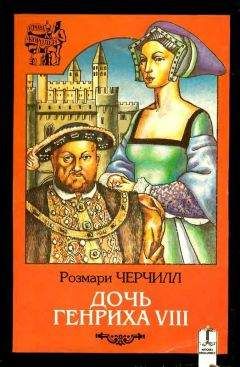Всеволод Соловьев - Изгнанник
Глубокая, жуткая тишина стояла в огромном пустом доме. Он пошел знакомой дорогой, отпирая двери, к которым столько лет не прикасалась рука его. Он обходил комнату за комнатой. Эти разнообразные комнаты, знакомые до мельчайших подробностей, встречали его своей грустной тишиною, своей атмосферой пустоты и затхлости. Каждая комната была мавзолеем, на котором при его приближении выступали полустертые буквы знакомого и дорогого имени.
Бледный старик спешил дальше и дальше, не останавливаясь, не вглядываясь, чувствуя только подступавшую к сердцу тоску, с которой ему хотелось упрямо бороться. Обойдя весь дом, он вышел на стеклянную террасу. Дверь была заперта, ключа не оказалось. Борис Сергеевич постоял минуту, огляделся, растворил широкое, составленное из разноцветных стекол окно, приподнялся и легким движением перепрыгнул через окно в сад, где встретило его раннее летнее утро…
Но прогулка не освежила и не ободрила. Упрямая борьба с воспоминаниями ни к чему не привела — они одолели, и мы видели, с каким тяжелым сознанием своего одиночества возвращался старик с этой прогулки…
Теперь дверь террасы стояла отпертою, и едва Борис Сергеевич поднялся по широким ступеням, как заметил своего Степана, стоявшего почти у самой двери и с жаром что-то кому-то объяснявшего. Кому — еще не было видно. Но миг — и Борис Сергеевич различил высокую, широкоплечую фигуру щегольски одетого в не то утренний, не то охотничий костюм молодого человека лет тридцати с небольшим. Борис Сергеевич остановился, вгляделся, и вдруг у него шибко забилось сердце. Глаза его блеснули — и новым чувством, именно тем чувством, отсутствие которого так его тяготило, вдруг пахнуло на него.
— Сергей? — тревожно, смущенно и в то же время радостно проговорил он и протянул перед собою руки.
Молодой человек бросился к нему. Они обнялись,
— Дядюшка, хорошо ли это, не дать знать… — начал было племянник неизбежную, требовавшую приличия фразу, но тут же замолчал, видя, что дядя его не слушает.
Да, он не слушал, он не мог слышать. Отстраняя от себя племянника и снова его к себе привлекая, он жадно вглядывался в красивое, открытое, хотя и не отличавшееся правильностью очертаний лицо молодого человека. Ему казалось, что это лицо ежесекундно перед ним меняется. Вот сейчас он узнал в нем своего отца, узнает брата, теперь вот узнает мать… Ее… ее улыбка!.. Вот она, как живая!.. Еще миг — и он видит перед собою самого себя в прежние годы…
«На всех похож!.. Наш… мой… родной!» — бессознательно, в полузабытьи шептал он и снова привлекал к себе племянника, и снова горячо целовал его, и чувствовал, как все шире и шире поднимается в сердце теплое, отрадное чувство.
Степан, в своем длиннополом, бутылочного цвета сюртуке, с узкими, несколько короткими рукавами, в огромном клетчатом платке, обмотанном вокруг длинной худой шеи, стоял не шевелясь. Гладко выбритое лицо его, с крупным носом, маленькими светлыми глазами и большим лысым лбом, все светилось радостной улыбкой.
— Так как же это ты, как узнал о том, что я здесь? — наконец, приходя в себя и все продолжая крепко сжимать руки племянника, проговорил Борис Сергеевич.
— Я это, сударь, с вечера еще распорядился, — сказал Степан, — послал в Знаменское. Вот и теперь Сергею Владимировичу докладываю: дяденька-то, мол, у вас чудак, каким сызмальства был — таким и остался… бывало вечно, никому не сказавшись, как снег на голову нагрянет… так вот и теперь. А Сергей Владимирович на меня не в обиде, что я от себя распорядился…
— Какой в обиде, большое тебе спасибо, любезный! — громким звонким голосом сказал молодой Горбатов, с изумлением и весело поглядывая то на дядю, то на Степана.
Конечно, он не стал объяснять, какое впечатление в Знаменском произвело посольство Степана. А дело было вот как. Совсем уже ночью прискакал, запыхавшись, из Горбатовского гонец с известием о приезде барина. Все уже в Знаменском разошлись по своим комнатам и даже погасили свечи. Не ложилась еще только Катерина Михайловна; она по старой привычке засыпала и вставала очень поздно. Когда ей доложили о гонце, она, видимо, несколько встревожилась и приказала призвать его к себе. Горбатовский дворовый вошел в горницу к барыне с большою робостью — Катерину Михайловну все горбатовские хотя и редко видали, но почему-то ужасно боялись.
— Когда приехал? — строгим тоном спросила она.
— Да уж совсем вечером, ваше превосходительство, — ответил посланный, вся фигура которого выражала не то перепуг, не то крайнее изумление.
— Что же, письмо есть ко мне или к молодому барину?
— Никак нет-с!
— Так, значит, на словах что сказать приказано? Да кто тебя послал? Сам барин?
— Никак нет-с, барин, надо полагать, започивать изволили, а это Степан Трофимович мне наказали: ступай, мол, сейчас верхом в Знаменское и доложи господам, что барин приехал — только и всего… Я мигом и поскакал…
Катерина Михайловна сразу не сообразила.
— Какой еще там Степан Трофимыч?
Гонец совсем растерялся.
— Да Степан Трофимыч… Ихний… Барский… С барином он приехал… Наш, горбатовский…
— А! — презрительно протянула Катерина Михайловна и махнула рукой. — Хорошо… Ступай…
Посланный низко поклонился и вышел. Она осталась одна и несколько мгновений сидела неподвижно, кусая губы и обдумывая что-то. Потом она прошла в комнаты, которые занимал ее старший сын с женою.
Все было тихо. Но из полуотворенной двери кабинета Сергея Владимировича пробилась полоска света. Катерина Михайловна заглянула — ее сын сидел у открытого окна в накинутом на одно плечо шелковом халате и курил сигару.
— Ты еще не спишь, мой друг?.. Могу я войти? — спросила Катерина Михайловна.
Он обернулся, с изумлением взглянул на нее.
— Как видите, еще не сплю, maman… войдите… В спальне такая духота, а Наташа боится все сквозного ветра, запирает окна… К тому же у меня вот уже третий день бессонница — не спится да и только! Скука такая, что просто с ума сойти можно… Вам что-нибудь угодно, maman?..
Она подошла к нему, присела рядом с ним.
— Ты говоришь: скука! А я к тебе с новостью, mon cher, будет и развлечение — дядя приехал!
Она передала свой разговор с горбатовским посланным.
Сергей выбросил за окно сигару, запахнул халат на своей широкой богатырской груди и добродушно усмехнулся. Когда он так усмехался, его худощавое, с несколько выдающимися скулами, тонким носом и светлыми, часто моргавшими глазами лицо делалось удивительно привлекательным. Он еще усмехнулся и наконец проговорил:
— Гм… дядя приехал!.. Ведь он и должен был приехать…
— Но ты заметь, — перебила его Катерина Михайловна, — заметь: каков! Если уж заранее не мог написать, то хоть бы теперь прислал два слова, а то ведь это его лакей распорядился известить нас…
— Так что же? Все равно! — равнодушно произнес Сергей. — Может, он нас совсем и знать не захочет и не приедет…
Катерина Михайловна нетерпеливо передвинулась на кресле.
— Нет, этого нельзя… Так нельзя, mon cher!.. Я тебя очень прошу пораньше утром к нему съездить.
Сергей поморщился.
— Увольте, maman! В самом деле — ведь он, может быть, не хочет — зачем же мне навязываться… подлизываться!..
— Пустое, пустое, мой друг! Он старший в семье, ты его крестник… ты непременно должен поехать… у него странности, я не знаю, каким он стал теперь… Но ведь ему многое надо прощать… и поверь — никто тебя не осудит — напротив, всякий поймет, оценит… c'est un vieillard… un homme malheureux après tout!..
Она стала уговаривать и скоро достигла цели. Сергея уговорить было нетрудно, особенно ей — она еще не так давно сумела уговорить его вторично жениться, когда он вовсе и не помышлял о женитьбе. Ему теперь просто надоел этот разговор, упрашивания, объяснения, ему, наконец, захотелось спать — и он дал ей слово рано утром отправиться в Горбатовское. Он сдержал свое слово, но нельзя сказать, чтобы с особенным удовольствием дожидался возвращения дяди с прогулки. Ждать ему, однако, пришлось недолго, да к тому же Степан заинтересовал его. Этот смешной старик, этот «сибирский тюлень», как почему-то про себя уже назвал его Сергей, встретил его, как родного, мало того — встретил, как малого ребенка, заговорил с ним каким-то ободряющим, покровительственным и нежным тоном. И в то же время этот тон был так естественен и добродушен, что Сергей никак не мог возмутиться подобной фамильярностью со стороны крепостного человека.
Но вот появился дядя и оказался совсем не таким, каким его представлял себе племянник. Между ними, при первом же объятии, пробежала как будто электрическая искра, и Сергей, к изумлению своему, почувствовал, что этот маленький красивый старик, всегда такой далекий, такой чужой — ему близок, что его влечет к нему, что ему приятно встречаться с ним глазами и чувствовать в своей широкой, костлявой руке его маленькую и дрожащую теперь от волнения руку.