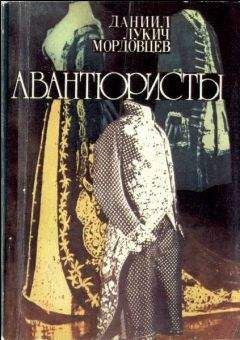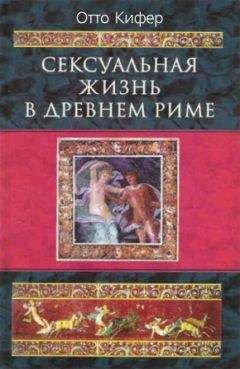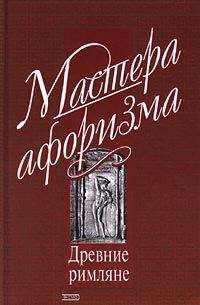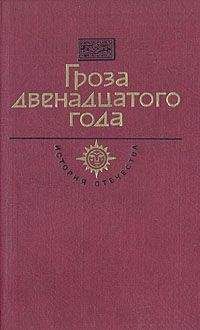Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Точно, зачнет и родит, — по-прежнему угрюмо отвечал Озеров.
— А кто же повитухой будет? — дразнил Хованский.
— Кому же, как не царевне Софье Алексеевне.
— А князюшка крестным будет? — в свою очередь улыбнулся хитрый немчин.
— Буду, буду, миленький, и ризки знатны припасу, — шутил Хованский.
— А у меня уж и на зубок новорожденной припасено, — вмешалась в разговор Родимица, до этой поры молчавшая, и тряхнула лежавшей около нее тяжелой кисой.
— Ай да Федора Семеновна! — воскликнул Хованский. — Ай да гетман — баба! Тебе бы быть не постельницей, а думным дьяком: ты и дьяка Украинцева за пояс заткнешь.
Потом, обратясь к Цыклеру и Озерову, он заговорил другим тоном:
— Да, худо, худо… Вы сами видите теперь, в каком вы у бояр тяжком ярме… Волы подъяремные! А кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери!
— Что ж, княже! — вспыхнул Цыклер. — А чем стрельцы не люди!
— Не кипятись, Иванушка, — ласково заговорил Хованский, — я не порочу стрельцов, а ты сам ведаешь, что мать нового царя не царского роду и не княжего, а простая стрельчиха.
— И это не порок, — возразил Цыклер.
— Верно, Иванушка, не порок, да ведь царевич-то Иван повыше семенем-то будет Петра, да он же и старший брат.
— Это что, тут точно что чечевичной похлебкой пахнет.
— Именно чечевичной… так я, милые мои, к тому веду: вот увидите, что напредки вам не токма что денег и корму давать не будут, а и вас и семя ваше изведут — зашлют вас и сынов ваших в тяжкие работы, отдадут вас в неволю чужеземным государям, позагонят вас, куда ворон и костей не заносит… Помните Чигирин?
— Помним, — мрачно отвечали стрельцы.
— То-то же. А без вас Москва пропадет, будут плакать по своим ладам милым жены стрелецкие… А тем временем и веру православную искоренят…
— Как у нас на Украине ляхи, — вставила Родимица.
— Да оно к тому и идет — продолжал Хованский, разгорячась, — вон ноне с польским королем вечный мир постановили по Поляновскому договору! От Смоленска отреклись…
— И наш Киев ляхам отдают, — вставила опять Родимица.
— Не быть этому! — сердито ударил по столу Озеров. — Печерские угодники наши — ста!
— Так, други мои! — возвышал голос Хованский. — Теперь пусть Бог благословит нас защищать Русь — матушку: не то что саблями да ножами, зубами будем кусаться!
— А зубы для такого дела позолотим вот этим! — добавила Родимица и вытряхнула на стол кучу золота. — Это царевна Софья Алексеевна шлет стрельцам свое жалованье, свои сиротские…
Хованский встал и начал ходить по комнате. Потом, подойдя к стоявшему в переднем углу аналою, на котором лежали евангелие и крест, он задумался.
— С чего же мы почин учиним? — спросил он после небольшого раздумья.
— Да прямо с бояр, — отвечал Цыклер.
— Бояр на закуску, — процедил Озеров.
— А с кого же, миленький? — глянул на него Хованский.
— С наших лиходеев, — был ответ.
— А! Мекаю, со стрелецких полковничков? С Карандея, с Сеньки Грибоедова? — С их.
Хованский снова задумался, опершись рукой на аналой. Потом, как бы решившись на что-то, направился к двери, ведущей в прихожую палату.
— Погодите малость, други, — сказал он на ходу.
Через несколько секунд он воротился.
— Приступим, — сказал он, — со страхом Божиим и верою приступим… Встаньте, подьте сюда.
Он подошел к аналою. Встали и подошли туда же Цыклер, Озеров и Родимица.
— Зрите сие? — указал Хованский на крест и евангелие.
— Видим, бачим, — отвечали все трое.
— Се крест Христов животворящий и святое евангелие, слово Божие, — продолжал старый князь торжественно, — аще кто ломает крестное целование, того убивает сей крест и все муки геенские насылает на поломщика крестной клятвы в сей жизни и в будущей. А муки сии суть сицевыя: трясение Каиново, Иудино на осине удавление, Святополка окаянного в пустыне, между чехи и ляхи и межи звери дикии, во ужасе шатание, гнусной плоти его землею непринятие, змеями и аспидами выи его удушение, во аде огнь неугасимый, червь невсыпущий, лизание горячей сковороды языком клятвопреступным и иные муки, языку человеческому неизглаголанныя… Ведаете вы сие?
— Знаем, ведаем, — был глухой ответ.
— И целуете крест на том, что я вам поведаю?
— Целуем.
— И тайны моей и вашей не выдадите?
— Не выдадим.
— Под кнутом, в застенке, на виске, на дыбе, на огне, на спицах, на колу, на плахе, на колесе, под топором не скажете?
— Скорее языки свои сами себе выкусим и выплюнем в снедь собакам, — страстно сказал Цыклер.
— Добро-ста, — тяжело вздохнул Хованский.
Он опять задумался. В старой голове его мелькал лукавый образ Шуйского… «Отчего и мне не сесть на том месте, на коем он, худородный, сидел? Что Шуйские? Что махонькая Шуя? Наш род главнее… За плечами наших отцов и дедов целая Хованщина… Только уж мне не доведется сложить свою седую голову в полону у поляков, как он сложил, а лягу я в Архангельском…»
— Добро-ста! — повторил он с силою. — Поднимайте руки, слагайте персты истово, вот так!
Те подняли руки. Рука Родимицы поднялась выше всех.
— Чтите за мною, — глухо проговорил Хованский.
— Знаем — ста, не впервой, — как бы огрызнулся Цыклер.
— Аз раб Божий, имя рек, — возгласил Хованский, — страшною клятвою клянусь, яко-то: небом и землею, пресветлым раем и гееною огненною, клянусь всемогущим Богом, пред святым его евангелием и животворящим крестом Христовым…
Все разом вздрогнули… Послышался резкий треск, словно бы крыша над домом рухнула, потом еще и еще, и гром глухо прокатился в отдалении…
— Свят-свят-свят, Господь Саваоф, — растерянно крестились заговорщики.
— С нами Бог… это первый гром…
— Небо, кажись, раскололося…
После первого момента испуга все пришли в себя.
— Бог дождику посылает.
— Для пахоты оно в самую пору.
— А ежели это к худу? Може, Бог — от нам знамение посылает, — недоверчиво проговорил Озеров.
— Для чего нам к худу? — возразил Хованский. — Вся Москва слышала сей глагол Божий.
— И точно, не мы одни.
Хованский возобновил прерванную присягу. Все снова подняли руки.
— Обещаю и клянусь всемогущим Богом пред святым его евангелием и животворящим крестом Христовым сложить голову мою за правое дело, во славу всея Руси, и что по сей клятве укажет творити раб божий Иоанн, княж сын Андреев князь Хованский, и те его указы исполнить свято, ничтоже прекословя, ниже мудрствуя лукаво…
— А в чем те указы будут, в какой силе? — перебил его Цыклер.
— Допрежь целуй крест, тогда и силу моих указов уведаешь, — отвечал Хованский.
— А коли они будут против моей совести? — настаивал Цыклер.
— Тогда вольно тебе не исполнять их, но токмо хранить тайну обо всем, что ты ноне, после крестного целования, от меня уведаешь.
— Добро, — согласился Цыклер, — клянуся сохранить твою тайну.
— А вы? — спросил Хованский Озерова и Родимицу.
— И мы клянемся, — был ответ.
Между тем удары грома слышались все чаще и чаще. Земля, казалось, дрожала в своем основании, а в щели ставней перед каждым ударом виднелось, как пылало все небо и, казалось, само оно колыхалось, как громадная огненная пелена.
— Клянитесь же! — продолжал Хованский.
— Клянемся! — повторяли заговорщики под удары грома.
— Аще же я, имя рек, клянусь о сем ложно, то да буду отлучен от святыя и единосущныя Троицы и в сем веце и в будущем, и да не имам вовеки прощения, но да трясусь вечным трясением, яко Дафана и Авирона, и да восприиму проказу Гиезиеву, удавление Иудино и смерть Анания и Сапфиры, и часть моя да будет с проклятыми диаволы…
Что-то внушительное и страшное слышалось в этих словах, произносимых глухим голосом под раскаты грома. Казалось, сама природа предвещала что-то роковое для заговорщиков…
VI. Стрельцы начали
Благодатная гроза и дождь как из ведра оживили всю природу. Не по дням, а, казалось, по часам Москва убиралась в зелень площадей и в цвет садов и огородов. Но этой свежей зелени скоро пришлось окраситься кровью… Утром 15 мая, в день убиения царевича Димитрия в Угличе, по улицам стрелецкой слободы скакали два всадника и громкими криками оглашали утренний воздух. Москва в это время только что просыпалась. Удары лошадиных копыт об сухую землю гулко разносились в воздухе.
— Помогите на супостатов, православные! Ивана — царевича не стало!
— Царевича Ивана задушили Нарышкины и хотят вас, стрельцов, извести! — раздавались возгласы вместе с топотом копыт.
— Идите, православные, в Кремль спасать царское семя!
К этим крикам присоединился еще какой-то дикий, странный плач.