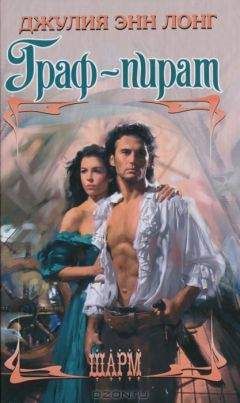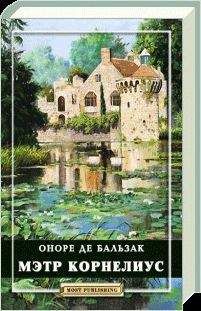Роуз Тремейн - Реставрация
С течением времени содержание письма изменилось: я придумал новый хитрый ход, чтобы привлечь внимание короля (сообщения о моем усердии было мало). Так как теперь я — простой врач, без денег и без поместья, собирался написать я, Его Величество может счесть меня мало подходящей парой для Селии. В случае, если решат наш: брак аннулировать, я не стану чинить никаких препятствий, так как всегда считал, что Селия достойна лучшего супруга…
Письмо я не отправил. Четырнадцать или пятнадцать раз я проговаривал про себя все новые варианты и однажды вечером, когда Финн и Фрэнсис Элизабет играли в карты в гостиной у камина, я уединился в рабочем кабинете и перенес письмо на бумагу. В этой написанной изящным слогом эпистоле я делал упор на моем возвращении в медицину, особо выделив, что ежедневно пользуюсь подаренными им хирургическими инструментами, а также выражал сожаление, что так гнусно обошелся с Селией, «прелестной, невинной женщиной, заслуживающей лучшего обращения, о чьем благополучии я ежедневно молюсь».
Я сложил письмо (прежде прочитав его так много раз, что знал наизусть), но не запечатал и не написал на нем королевского имени. Поднявшись к себе, я снял с полки потрепанный пирсовский экземпляр «Исследований о зарождении животных», раскрыл его, положил письмо между страниц и поставил книгу на прежнее место.
Я сказал себе: ты его написал наконец, Меривел, теперь успокойся, вернись к привычному существованию и будь счастлив тем» что имеешь. Некоторое время я честно старался воплотить в жизнь этот данный самому себе совет, но не очень преуспел. Желание видеть короля было сродни желанию любовника видеть возлюбленную — такое же сильное и непоколебимое.
Как-то в конце июля я зашел в студию Финна (так теперь называлась комната, где раньше Фрэнсис Элизабет писала письма) и увидел на мольберте свой портрет.
— Ты что, хочешь замазать мой портрет и поверх него написать новый? — задал я Финну прямой вопрос. — Ты нарисовал его поверх замазанной кирпичной кладки, а теперь хочешь замазать и меня, хоть я заплатил тебе семь шиллингов.
— Вовсе нет, — невозмутимо ответил Финн. — Мне очень нравится этот портрет.
— А зачем тогда он стоит на мольберте?
Финн подошел к мольберту, снял картину, а на ее место поставил только что законченный портрет женщины лет пятидесяти пяти, в изящном кружевном чепце и по-пуритански простом, черном платье.
— Видишь? — сказал он. — Та же поза, что и у тебя. Та же осанка, та же сосредоточенность на руках, тот же холодный свет на лице. Как только я увидел эту женщину, сразу решил запечатлеть ее в таком же положении. А твой портрет я поставил на мольберт, чтобы сравнить обе картины.
Я взглянул на лицо женщины, превосходно изображенное Финном. В нем была почти неземная доброта, и этим незнакомка напомнила мне мать. В руке она держала маленькое перышко, выкрашенное в красный цвет.
— Кто эта женщина? — спросил я.
— Забыл ее имя, — ответил Финн. — Жена галантерейщика.
Я сурово взглянул на Финна. Тот только пожал плечами, как бы говоря: «Это все, что мне известно». Я снова перевел взгляд на портрет. Сходство женщины с матерью показалось мне на этот раз столь поразительным, что мои мысли приняли неожиданный оборот. А что, если это и правда моя мать? Вдруг при пожаре она не погибла? Может быть, та женщина, которую пытался, но не смог спасти Латимер, была не моей матерью, а горничной?
Я понимал, что такое фантастическое течение мыслей неминуемо заведет меня в тупик, и постарался поскорее оттуда выбраться, но и на более реалистическом уровне все выглядело странно: откуда такое необыкновенное сходство? И как могла в мире, испорченном модой, существовать связь между галантереей и благородной душой, между отмериванием клеенки и нежным сердцем?
Весь вечер я только и думал о женщине с портрета. Ночью мне приснилась мать. Она вошла, остановилась и долго смотрела на мой портрет. Потом протянула к нему руку и стала скрести краску, пока частично не обнажила под ней белую основу. Тогда она произнесла: «С виду он цельный, но, если копнуть глубже, в нем какой-то странный, оскверненный свет». Проснувшись, я вспомнил слова Мудрой Нелл, так называемой колдуньи из поселка Биднолд, она сказала, что меня ждет «долгое падение», но не уточнила, придет ли ему конец или я так и буду катиться вниз до полного крушения. Прошло немного времени. Я встал и зажег свечу. Потом крадучись — мне все представлялись лица за окном, они подсматривали за мной, подсмеиваясь над моей слабостью, — взял с полки книгу Пирса, извлек оттуда письмо и перечел его. Затем написал на нем имя короля, растопил сургуч над пламенем свечи и запечатал письмо. «Ничего не попишешь, — прошептал я невидимым лицам за темным окном, — мне не обрести мира в душе и не исцелиться, пока я не получу от него хоть короткой записки…»
На следующий день я отнес письмо в Уайтхолл и поспешно удалился.
Дожидаясь ответа, я отправился в дом ростовщика навестить Маргарет, чтоб хоть на время выйти из состояния тягостного ожидания.
Дочка мирно спала в своей колыбельке. Я видел только закрытые глазки и приплюснутый носик, но по розовым щечкам и сладкому посапыванию было ясно, что ребенок здоров и ему хорошо. Кормилица подтвердила, что Маргарет активно сосет и громко кричит: «все говорит о том, что она выживет, сэр». При этих словах меня пронзила радость от мысли, что эта малышка, которую я внес в этот мир собственными руками, будет расти, станет большой девочкой, потом девушкой, и я буду свидетелем ее взросления, буду ее любить и возить по воскресеньям в Воксхолский лес смотреть барсуков. Подобные мысли были новыми и необычными для меня. Трудно было поверить, что они рождаются в моей голове.
Я дал кормилице немного денег.
— Сколько нужно кормить ее грудью? — спросил я, собираясь уходить.
— Не меньше года, сэр, — ответила она. — До этого времени я никого не отпускаю. — Кормилица улыбнулась и слегка похлопала по грудям, ненавязчиво привлекая внимание к своим богатствам, которыми втайне гордилась. Две кудрявые девчушки выглядывали из-за спины матери, смотрели на меня, хихикали, а потом шутливо присели в реверансе. Я тоже им поклонился, почувствовав, что краснею.
Возвращаясь быстрым аллюром домой на Плясунье, я подумал, какой неожиданной радостью может стать для меня хорошенькая дочка. Я уже мысленно видел, как нанимаю няню, — она будет стирать ее юбочки и укладывать в локоны рыжие волосы. Но тут же вспомнил, что Маргарет похожа на меня (она не унаследовала прямой тонкий нос и черные глаза своей матери) и, значит, хорошенькой ей не быть. Может случиться, что она будет просто уродиной, и тогда ее ждет обычная судьба некрасивых женщин (если они не сказочно богаты) — одиночество и низкое положение в обществе. Я стал прикидывать, как этого избежать, и решил, что, когда придет время, надо будет пригласить к девочке учителей музыки и petit point,[69] а также филологов, которые изучили бы с ней не только поэтические произведения Драйдена, но и сочинения всех великих поэтов прошедших веков. Раз не вышла лицом, пусть воспитание и мудрость помогут ей заполучить доброго мужа.
Почти всю дорогу мысли мои были заняты будущей судьбой Маргарет, думал я также о несправедливом общественном устройстве (такие мысли впервые посетили меня на вскрытии умершей женщины в «Уитлси»), при котором мужчины могут достичь благополучия самыми разными путями, а женщины — только одним. Я испытывал сильнейшую досаду по этому поводу, понимая всю глупость и жестокость такого положения вещей, пока не свернул на Чипсайд и не увидел на дверях табличку со своим именем. После этого я мог думать только о том, не пришло ли в мое отсутствие ответное письмо от короля. Я спешился и поторопился войти в дом. Письма для меня не было.
— Почему ты спрашиваешь? — поинтересовалась Фрэнсис Элизабет. — Ждешь известий?
— Нет, — ответил я, — просто аптекарь пообещал сообщить, когда будет готово заказанное мной лекарство. Ему надо достать еще одну важную составляющую часть…
Не помню, сколько прошло дней, прежде чем я получил ответ. Помню только, что время тогда тащилось, как черепаха, и большую часть его я проводил в фантазиях, представляя, как старею я, стареет король, но ответа все нет, а я с тем же нетерпением жду письма, так что вся моя жизнь проходит под знаком бесконечного ожидания.
Я стал чаще ошибаться. Однажды ко мне пришел мужчина с жалобой на боль в животе; я поставил диагноз: кишечное кровотечение и, чтобы его остановить, пустил кровь в другом месте. На следующий день мужчина пришел снова и протянул мне железный гвоздь — он изрыгнул его из себя вместе с рвотой, которую вызвал у него мой конкурент Мой ошибочный диагноз мог стоить человеку жизни. Мужчина вложил гвоздь в мою ладонь со словами: «Положите этот гвоздь на видное место, пусть он служит вам напоминанием об ошибке — такое не должно больше повториться».