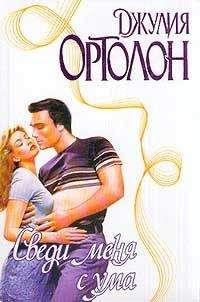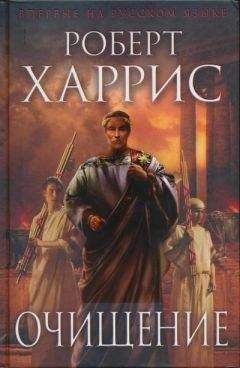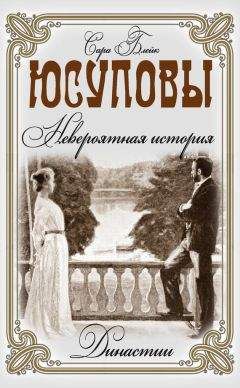Вашингтон Ирвинг - История Нью-Йорка
Питер Стайвесант отличался, однако, склонностью управлять провинцией без помощи своих подданных, так что, вернувшись, он очень, рассердился, когда обнаружил, что за время его отсутствия они понабрались мятежного духа. Поэтому первым делом он решил восстановить в стране полный порядок, растоптав достоинство державного народа.
Итак, однажды вечером, дождавшись удобного случая, когда просвещенная чернь собралась на многолюдный сход и слушала патриотическую речь вдохновенного сапожника, бесстрашный Питер, как его великий тезка, царь всея Руси, внезапно появился среди присутствующих, храня на лице такое выражение, которого было бы достаточно для того, чтобы привести в трепет мельничный жернов. Все собрание было повергнуто в ужас; оратора словно хватил паралич посреди высокопарной фразы, и он стоял, пораженный, с открытым ртом и дрожащими коленями, между тем как слова «ужас!», «тирания!», «свобода!», «права!», «налоги!», «смерть!», «гибель!» и целый поток прочих патриотических фраз с ревом вылетали из его глотки, пока ему не удалось закрыть, наконец, рот. Разгневанный Питер, не обращая внимания на толчею, создавшуюся из-за того, что каждый старался спрятаться за спину соседа, подошел к крикливому забияке и, вытащив огромные серебряные часы, которые во время оно, возможно, служили городскими часами и сохранились до наших дней у его потомков как семейная диковина, попросил оратора починить их, чтобы они снова пошли. Оратор смиренно признался, что никак не может этого сделать, ибо не знаком с их устройством.
— Ну-ка, — сказал Питер, — испытай свое искусство, любезный. Смотри, вот все пружины и колесики; ты ведь знаешь, как легко может самая неловкая рука остановить часы и разобрать их на части. Почему же привести их в порядок должно оказаться труднее, чем остановить?
Оратор заявил, что занимается совершенно иным ремеслом, что он бедный сапожник и никогда в жизни не имел дела с часами. Есть люди, искусные в часовом ремесле, коим и надлежит заниматься этим делом, а что до него, то он только все перепутает и испортит превосходную вещь.
— Послушай-ка, господин хороший, — воскликнул Питер, сразу ловя сапожника на слове и по-прежнему храня такой вид, от которого тот чуть не превратился в каменную выколотку; — как это ты позволяешь себе вмешиваться в дела правления, приводить в порядок, налаживать, латать и чинить сложную машину, основы устройства которой выше твоего разумения и даже простейшие действия которой недоступны твоему пониманию, настолько они тонки, между тем как ты не в состоянии исправить пустяковый недостаток в самом обыкновенном механизме, все тайны которого открыты для твоего взгляда? Убирайся к своей коже и каменной выколотке, что могут служить эмблемой твоей головы; чини свои башмаки и ограничься тем призванием, для которого провидение тебя создало. Но знай, — Питер повысил голос так, что воздух вокруг зазвенел, — если я когда-либо поймаю тебя или кого-нибудь из твоего племени, будь то квадратноголовый или плоскозадый, на том, что вы вмешиваетесь в государственные дела, тогда, клянусь святым Николаем, я сдеру со всех вас, ублюдков, живьем шкуру и велю натянуть ее на барабаны, чтобы впредь вы шумели не попусту!
От этой угрозы и оглушительного голоса, каким она была произнесена, вся толпа задрожала в страхе. Волосы на голове оратора встали дыбом, наподобие свиной щетины, которую он сучил вместе с дратвой, а у всех присутствовавших на собрании рыцарей наперстка замерли их могучие сердца, и все они почувствовали себя так, словно им и впрямь хотелось проскользнуть сквозь игольное ушко.
Принятая мера произвела желаемое действие, восстановив в провинции порядок, но зато она повела к тому, что просвещенная чернь стала охладевать к великому Питеру. Многие обвиняли его в проявлении аристократических замашек и слишком явном потакании патрициям. В сущности, для таких подозрений кое-какие основания были, ибо при нем впервые появились фамильная гордость и хвастовство богатством, которые впоследствии достигли в нашем городе такого расцвета, В одном труде, опубликованном через много лет после тех событий, которые описывает мистер Никербокер (в 1701 г. Автор К. В. А. М.), упоминается Фредерик Филипс,[456] считавшийся самым богатым мингером в Нью-Йорке; о нем говорили, что у него целые бочки индейских монет или вампумов. После него остались сын и дочь, которые по голландскому обычаю поделили наследство поровну». Тот, кто правил собственными колясками, имел собственных коров и наследственный клочок земли под капустой, смотрел на менее состоятельных соседей сверху вниз, с ласковой, но в то же время оскорбительной снисходительностью; а те, чьи родители были каютными пассажирами на «Гуде вроу», постоянно спорили по поводу того, чьи предки благородней. В это время стала появляться роскошь в различных формах, и даже сам Питер Стайвесант (хотя его положение в сущности требовало некоторой пышности и великолепия) появлялся на народных торжествах в парадной карете, а в церковь всегда ездил в желтой коляске с огненно-красными колесами!
Из нарисованной мною картины читатели легко могут заметить, что многие черты характера наших предков в точности сохранили их потомки. Гордость своим богатством все еще царит среди наших зажиточных граждан. И многие работящие ремесленники, в начале своей жизни неустанно трудившиеся в пыли и безвестности, впоследствии выбиваются из сил, разыгрывая из себя джентльменов и упиваясь почетом, честно добытым ими в поте лица. Этим они напоминают домовитую, но честолюбивую хозяйку, которая целый день хлопотала, не покладая рук, в жаркой кухне, чтобы приготовить парадный обед, а вечером вплывает в гостиную и изнемогает от духоты в пышном наряде глупой великосветской дамы.
Нельзя без изумления смотреть и на то, сколько появилось в последние годы знатных семейств, чрезвычайно гордящихся древностью своего происхождения. Так, человек, который может взирать на отца, не испытывая при этом унижения, считает себя достаточно значительной особой; тот, кто может без опасений разговаривать о своем дедушке, бывает еще тщеславней, а тот, кто может оглянуться на своего прадеда, не споткнувшись о табурет сапожника и не стукнувшись головой о позорный столб, совершенно нетерпим в своих притязаниях на знатность. Бог ты мой, какие ссоры вспыхивают между этими выскочками часовой давности и выскочками суточной давности!
Что касается меня, то я считаю старинные голландские семейства единственными представителями местной знати, подлинными землевладельцами; при виде старого честного бюргера, спокойно покуривающего свою трубку, я всегда проникаюсь к нему почтением, как к достойному потомку Ван-Ренселлеров, Ван-Зандтов, Никербокеров и Ван-Тойлов.
Я не хотел бы, однако, чтобы из сказанного мною в первой части этой главы читатель сделал вывод, будто великий Питер был губернатором-тираном, державшим своих подданных в ежовых рукавицах. Напротив, в тех случаях, когда его достоинство и власть не бывали затронуты, он всегда проявлял великодушие и любезную снисходительность. Он действительно верил (боюсь, что мои более просвещенные читатели-республиканцы сочтут это доказательством его невежества и ограниченности), что, предохраняя чашу общественной жизни от опьяняющего зелья политики, он способствовал покою и счастью народа, а отвлекая умы новонидерландцев от вопросов, которые недоступны их пониманию и могут лишь разжечь в них страсти, он помогал им более честно и прилежно заниматься своим делом и таким образом стать полезными гражданами, заботящимися о своих семьях и своем достоянии.
Отнюдь не будучи несправедливо суровым, он радовался при виде того, что бедный и работящий человек веселится, и поэтому всячески поощрял устройство празднеств и народных развлечений. В его правление был впервые введен обычай бить яйца на Paas, то есть на пасху. Новый год также ознаменовали буйным ликованием, и о его наступлении возвещали колокольным звоном и выстрелами из пушек. Каждый дом был храмом бога веселья: ради такого случая лились океаны вишневой наливки, настоящей голландской можжевеловой водки и горячего сидра с пряностями; и каждый бедняк в городе старался напиться допьяна из соображений чистой экономии — поглотить спиртного столько, чтобы хватило на полгода вперед.
Приятно было смотреть на доблестного Питера, когда субботними вечерами он сиживал среди старых бюргеров и их жен под большими деревьями, простершими свою тень над Батареей, и наблюдал за юношами и девушками, которые танцевали на лужайке. Здесь он курил свою трубку, отпускал шутки и в тихих, ниспосылающих забвение радостях мирной жизни забывал о суровых ратных трудах. Время от времени он одобрительно кивал юношам, которые притоптывали и дрыгали ногами сильнее других, а иногда от чистого сердца крепко целовал веселую красотку, продержавшуюся дольше всех своих соперниц, которые окончательно выбились из сил, и тем бесспорно доказавшую, что она самая лучшая плясунья.