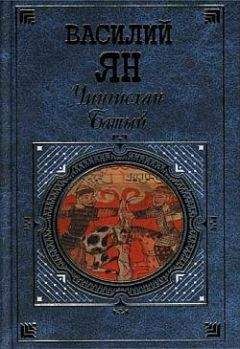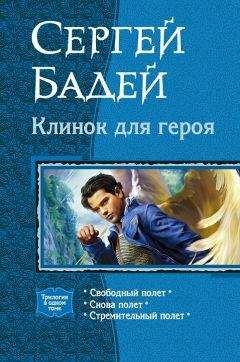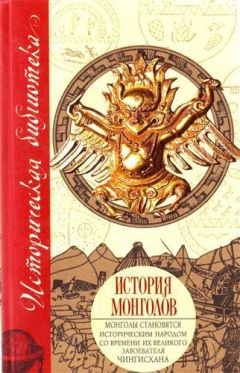Олег Широкий - Полет на спине дракона
Окончательно проснувшись и, конечно же, мигом забыв о холоде, Боэмунд вдруг с ужасом понял, что все эти годы шарахался от женщин не напрасно — ничего в нём, оказывается, не изменилось. Впрочем нет, изменилось, стало плавнее, мягче. Непослушными от холода руками он стал снимать с себя овчинный тулуп.
Простодушие девушки не знало границ:
— Вот и ладушки, а то всё мужики кругом... А ты скопец — божий человек. Около тя пригреться — гулящей кто назовёт? Только благодать одна...
Наверное, он так отвык за эти годы думать о себе не как об оружии чьей-то воли, что, к своему удивлению, не почувствовал ни обиды, ни боли. Только желание не упустить свалившиеся на него блаженство и успокоение... «Так, значит, ничего? Завтра всё кончится, и я не буду выть и беситься, только свежесть, только силы. Довольствоваться малым — вот свобода».
Они укрылись тулупами, но сон, конечно же, не шёл. Проклятый церковью эллинский бог Гипнос церемонно удалился на свой забытый Олимп, оставив их наедине с сумбурными разговорами.
— Скажи, блаженный. А какая она... красиивая? — первой не выдержала она.
— Да кто? — Боэмунд боялся пошевелиться.
— Ну энта... Богородица твоя.
— Как тебя звать? — перебил липовый пророк.
— А, Прокудой, — махнула она рукой, будто ей совсем было не важно, как её зовут.
Он ждал, что, как налетают чёрные всадники на мирное поселение, так налетят на него зависть или жалость к себе... или ревность к этим мужикам, рядом с которыми сия пава не желает греться именно потому, что они мужики. Но оказалось: он слишком долго изучал этих людей, их предсказуемые дикарские порывы, чтобы с кем-нибудь из них себя серьёзно соотносить. Знания подарили ему отчуждение — это он знал про себя, они же оснастили Боэмунда добротным панцирем, позволяющим пить удовольствия без горечи утрат — таким он был приятно удивлён.
И тут на него нахлынули такие силы, которые он считал от себя отсечёнными, а они, оказывается, просто чувств тогда лишились. Оглушённый на поле боя и честь сберегает, и жизнь сохраняет. Главное — вовремя проснуться. Кто знает, может быть, и нужны были эти десять лет трудов, отвлечённых от своей собственной жизни, чтобы не очнуться слишком рано — когда по «полю поражения» ещё бродят враги и лениво добивают раненых.
А сейчас — в самый раз?
— Ночь-то какая, костры на небе... — опять заговорила Прокуда, забыв о предыдущем вопросе, — тоже небось небесные люди на сечу вышли.
— Они каждую ночь перед боем отдыхают, — продолжил Боэмунд.
— Евпатий говорил — это воинство Михаила Архангела у костров сидит, чтобы биться поутру с нечистой силой. — Оказалось, это сравнение она не придумала, просто вспомнила...
Эта ночь принадлежала только ему — не чужим делам, не преданности долгу, только ему... «Оскоплённые» сосны — сколько народу лапник с них драло — показались ему близкими и родными — даже в общем их несчастье. Единение с лесом — тяжкий грех. Леса — гнездовище чудовищ — нужно вырубать и разводить на их месте прекрасные сады. Так говорили ему давно. Дети города — тесного, каменного ковчега свободы — не любили леса. Да и не было рядом таких лесов. А те, что были, — почти как сады. Каждое дерево герцогу на учёт. А здесь бескрайние пущи, утешающие, спасающие. «Для нас пришельцев — убивающие».
Его же доля — греться у костра врага, есть хлеб из рук врага. Любой, узнав правду о нём, отдаст на муки и будет прав. И только эти обглоданные сосны, едва заметные во отблесках костров, казалось, не поступят с ним по справедливости. Они несправедливы. Как здорово, что в мире есть хоть что-то несправедливое. Значит, он всё-таки не такой безнадёжно правильный.
Наверное, он думал об этом не так долго, потому что ещё не прервалась ниточка их разговора.
— Экая ты глупая, — возразил он на здешний манер, — поутру нечистая сила вся прячется...
— Не, — замотала головой девушка, при её пышности и дородности этот детский жест выглядел смешно и трогательно, — Евпатий говорил не так. Он говорил: бесы сами придумали такое, что, мол, днём их нет. Днём-то как раз самые бесы...
«Опять этот Евпатий», — недовольно подумал Боэмунд. Он уже не мог разобраться, злится ли на то, что это имя напоминает ему о будущих, дневных, делах. Или... ну не ревнует же он? Глупо было бы.
— А спать-то и вовсе не хочется, пошли к костру, — вдруг встрепенулась Прокуда.
— Что костёр, на небе вон тоже. — Он осторожно сел. Примятый лапник недовольно захрустел, упруго выгнулся. Прокуда, словно повторив движение примятых веток, потянулась.
— Лапник-то абы как постелил, — улыбнулась, — эх, богомольцы... беда с вами.
— Да не богомолец я никакой... Беда просто... Ты на площади-то рязанской была? Видела меня? — обиделся Боэмунд на то, чем полагалось гордиться, то есть не гордиться, ведь гордость — это тоже грех... Да что ж у них не грех в конце-то концов!
Слава Всевышнему, здешний люд относится к монахам, точно к покойникам. Хоть и с почтением, а на его место, как в домовину, не больно-то охота. И ещё здешние князья один другого насильно стригут. А те, едва опасность миновала, расстригаются обратно.
Слава Всевышнему — мало ещё в этой стране культуры.
Режут по мотивам варварским, за власть, за маммону. Его родной Безье топтали правильно, культурно. В эту глушь такие нравы только ползут. Как сады на тёмный лес. А садовник, известно, и малой дикой травинке не даст на солнце смотреть. Но сейчас — ночь, сейчас солнце отдыхает.
И война тоже. Отсыпаются бесы в пёстрых кожухах и здесь, и в мирном лагере Гуюка.
Спите, а мы погуляем, если, конечно, «дама» согласится. Повернись судьба иначе, был бы он трубадуром...
Однако, спросив о себе, Боэмунд услышал такое, что уже никак не мог бездумно наслаждаться звёздами. Так бывает: всё о человеке известно любому, только не ему самому.
— Все вокруг тя кругами ходют, говорить боятся. А не смешно ли от благодати-то шарахаться? Иной раз в хате ей как следует намолишь, так все окна и двери затыкать надо, чтоб на холод не ушла. А тут — бери её даром. Перед боем-то в самый раз. А я и медведя не боюся, и тебя не боюся.
От исповеди такой у соглядатая всё более округлялись глаза, становясь похожими на те, что на иконах рисуют. Он узнал о себе много нового: оказывается, было ему, бывшему иноку, что Господь пошлёт Небесную Кару — полчища татарские — на землю булгарскую, ежели булгары всем народом в веру праведную не перейдут. Поняв предназначение своё, Боэмунд лишил себя добровольно плоти греховной да и запродался в бесерменские холопы — нести Слово Божие в земле булгарской. Нехристи его, знамо дело, не послушались и лишились града за грехи.
— А дальше? — с возрастающим интересом внимал Боэмунд.
Дальше всё было ближе к «правде». Только почему-то получалось, что он не бедная жертва, а чуть ли не сам татар наслал. Вот это да! Такого отклика на своё актёрство он не ожидал. И что теперь? Каждая собака в лицо знает — не кланяется, так шарахается. У него было такое чувство, что Бату им пожертвовал. Сейчас — этой свободной ночью — Боэмунд очень на него злился.
А может, оно и к лучшему? В конце концов, Джамуха-Сэчен — главный друг и соглядатай Темуджина — был в полном доверии у всех врагов Чингиса, ибо играл роль не просто его недоброжелателя, а опаснейшего из таковых. «То есть нужно, как со слухами, не опровергать, а раздуть и довести до полной нелепицы».
Думая о заботах, он предавал эту ночь, подаренную именно ему... «Ну уж нет, поразмыслю обо всём поутру, а в глазах этой юной кудесницы быть человеком «не от мира сего» не желаю». И он бросился в бой за себя, настоящего. Ну не совсем «настоящего» — жить тоже хочется, — но почти.
Рано или поздно понимаешь: есть только одна святыня на земле — человеческая жизнь. Какая именно? Твоя собственная. Эта мысль как дом родной. Всякий странник с трепетом подходит к дому, который некогда покинул.
Не противоречит сие и религиозной мудрости, ибо «устами младенца глаголет истина», а младенец — дело известное — любит только себя. Дьявольские силы ещё не заставили его любить всякий остальной вздор. И да пребудет высокое шкурничество главным зерцалом лика Господнего, аминь. Так хотелось думать Боэмунду в ту ночь в лесу под Пронском. Мысли о себе, любимом, которые он столько лет держал как раненых зверей в глухой клетке, отворили дверцу и выскочили на свободу. Но смогут ли «звери» снова жить в лесу... после стольких лет неволи?
«Завтра — как Бог даст. Сегодня, в этом лесу — смогут».
Он с трудом сдерживался, чтобы не раскрыться перед Прокудой, чтобы не сбросить с себя преждевременные похоронные «ризы» страстотерпца, чтобы не превратиться в мужчину и воина хотя бы на эту волшебную ночь. Облик непобедимого витязя — хозяина девичьих грёз — был ему до боли понятен. Что тут, в конце-то концов, понимать? Что там её Евпатий? Небрежные (но и не глупые, да) речи сего Евпатия «дама» пересказывает с придыханием?