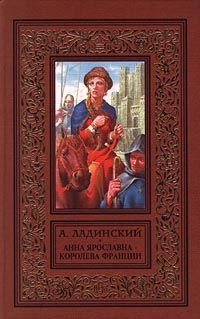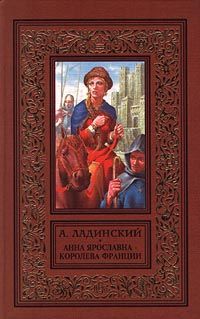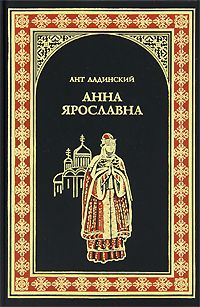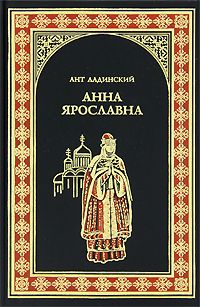Антонин Ладинский - Анна Ярославна — королева Франции
Все уже забыли о предупреждениях лекаря.
Не очень соображая по молодости лет, в каком отчаянном положении он очутился, Пуасси тем не менее клялся, что сам пил эту воду без всякого вреда для себя. Она была чистая и прозрачная, принесенная из замкового колодца. Конюхи видели, как он доставал ее, приводя в движение вертушку с черпалом на веревке. Но по лестнице уже поднимались, услышав о трагическом событии, графы и рыцари, которые тотчас же схватили оруженосца и увели в темницу, где несчастный должен был оставаться до тех пор, пока не прибудет королева.
Агобер вернулся в горницу, где находилось тело короля, и долго смотрел на лицо усопшего, такое хмурое при жизни, а теперь совершенно спокойное. Смерть есть естественное завершение бытия. Поэтому недостойно и бесполезно для разумного человека предаваться чрезмерному горю даже по поводу кончины близких людей. Епископ вздохнул и пошел распорядиться относительно гроба и всего, что полагается совершить в подобных случаях. На молодого Пуасси надели железный ошейник, и он плакал, как ребенок, в зловонной подземной темнице.
В это время с замковой башни донеслись звуки рога и послышались крики стража, увидевшего на парижской дороге всадников. Он еще не знал о том, что король умер, и весело орал, приложив ладони ко рту, стоявшим на замковом дворе и обсуждавшим событие:
— Скажите королю, что его супруга спешит к нему. Она уже приближается к замку!
На него замахали руками, чтобы он замолчал.
Тяжело дыша и сдерживая рукой биение сердца, Анна поднялась по винтовой лестнице. Ей уже сообщили о том, что произошло. Наверху царственную вдову встретил опечаленный Агобер. Склонив главу набок и разведя руками, епископ пытался утешить королеву.
— Где король? — тихо спросила Анна, как будто бы Генрих был живым.
— Милостивая королева…
— Где он лежит?
— Здесь, — показал Агобер на дверь, в которую приходилось входить согбенным. — Но покорись воле…
Не слушая епископа, Анна отворила страшно скрипнувшую дверь и увидела труп. У изголовья усопшего горели две церковных восковых свечи…
Генриха I похоронили в аббатстве Сен-Дени, находившемся много лет в личном владении королевской семьи. После положенных молитв и псалмов гроб опустили в яму, вырытую в церкви, недалеко от алтаря. Для этого пришлось вынуть из каменного пола несколько плит. В могиле Анна рассмотрела прах земли — обыкновенный желтоватый песок, но уже столетие не орошаемый дождями и потому такой сухости, что в нем трудно было завестись даже гробовым червям. Потом каменщики снова положили прислоненные к стене плиты на старое место и замазали щель известью, старательно очищая испачканные пальцы о собственную одежду… Опечаленная Анна возвратилась с двумя сыновьями во дворец.
По завещанию короля Анна стала опекуншей сына, малолетнего короля Филиппа, вместе с Балдуином. Покойный король не доверял своим графам, способным при первом же удобном случае вновь начать гражданскую войну и устранить Филиппа от престола. К счастью для малолетнего короля и его матери, в первые годы ее регентства никаких волнений не произошло: титул короля Франции действовал на людей как некое магическое заклинание, и ни один граф не посмел поднять руку на помазанного священным миром отрока… Тем более что Балдуин был могущественным сеньором, а Филипп очень рано стал проявлять недюжинные способности и стремление к самостоятельности. Он даже мальчиком неохотно выслушивал нарекания матери, хотя относился к ней с нежностью. Но едва успела Анна оплакать мужа и обдумать создавшееся положение, как увидела, что Филипп уже не ребенок, а твердо заявляющий о своих правах король, такой же красивый юноша, каким был ее брат Изяслав, хотя и расположенный к полноте. Иногда королева смотрела на Филиппа и спрашивала себя, неужели это тот самый младенец, что плакал, когда она отнимала его от груди.
С юных лет Филипп отличался острым умом, подозрительностью, недоверием к людям, презрением к их слабостям и неразборчивостью в средствах для достижения какой-нибудь дальновидно поставленной перед собою цели. Как и у Генриха I, у него было мало воинских сил, но с самого начала своего правления юный король заставил слушаться себя, и в этом отношении ему помогала мать, так как трудно было избежать сетей ее очарования и не сделать того, чего она хотела. Еще ребенком, играя у ног матери в той горнице, где она имела обыкновение беседовать с епископом Готье о возвышенных предметах, Филипп привык к словам, каких никогда не произносят ни в походе, ни на судилищах обыкновенные люди и даже графы. Но, изучая науки и хорошо зная латынь, юноша без большого уважения относился к болтовне ученых мужей, которые, по его мнению, переливали из пустого в порожнее. Филипп предпочитал песни менестрелей и проделки жонглеров, и никогда еще во Франции не сочиняли столько стихов, как в годы его царствования. Он любил окружать себя молодыми людьми, которые видели в нем не только короля, но и предводителя в веселых проказах и любовных похождениях. Филипп пробовал таким образом прочнее привязать к себе своих сподвижников. Юный король трезво смотрел на окружающий мир, и его язык был резким, а выражения часто площадными. Но суждения короля давали повод думать, что французское проникновение в суть вещей соединялось у него со спокойным русским умом. Филипп никого не щадил в своих высказываниях, ибо считал, что каждый должен отвечать за свои поступки, и в этом отношении не делал исключения даже для самого папы, чем весьма огорчал королеву.
Во время одной трапезы произошел такой случай. За столом сидел Готье, еще более располневший за последние годы. Кроме королевы, епископа и Филиппа, никого на этом ужине не было. Как обычно, разговор шел о предметах, какие с юности интересовали Анну: о сказочном мире, таинственным образом существовавшем в книгах.
Продолжая беседу, Готье поучал:
— Диалектику надо считать искусством искусств и наукой наук. Тот, кто обращается к ней, взывает к разуму. Какое ее самое ценное свойство? А вот… Она дает нам возможность соединять понятия и разделять и снова указать каждой вещи принадлежащее ей место…
Епископ на минуту прервал свою речь, чтобы опять заняться едой. Он держал в обеих руках до золотистости поджаренную утку, которую уже обглодал наполовину; капли жира запачкали его сутану. Потом продолжал:
— Отправляясь от общего, диалектика нисходит до самых единичных явлений, с тем чтобы снова возвыситься до всеобщего, следуя по тем же самым ступеням, по которым происходит нисхождение.
Филипп, с презрительным вниманием слушавший эти рассуждения о возвышенных понятиях, вдруг сказал в гневе:
— Лучше бы ты не обжирался!
Все так же держа птицу, Готье от удивления широко раскрыл рот, поворачивая мясистое, розоватое лицо то к королеве, как бы ища у нее защиты, то к Филиппу.
— Как можешь ты говорить так служителю церкви? — возмутилась Анна. — Подобными словами ты рискуешь погубить свою душу.
Но юный король, уже покончивший со своим цыпленком, вытирая рукой губы, ответил матери:
— Боишься, что он не будет молиться за меня и я не попаду в рай? С меня довольно провести время приятно на земле.
— О небесном ты не помышляешь… — вздохнула королева.
— Кто-нибудь видел, что есть на небесах? Вернулся к нам хоть один человек, побывавший в раю? Мало ли что будут рассказывать епископы, — рассердился Филипп.
— Папа, возглавляющий церковь… — начал было Готье.
— Оставь меня в покое с твоим папой.
Епископ в крайней скорби (у него даже пропал аппетит), впрочем оскорбленный не столько неверием юноши, сколько грубостью его слов, положил недоеденную утку на оловянную тарелку и не знал, что теперь делать со своими руками. Он так и держал в воздухе растопыренные масленые пальцы.
— Кто видел, как пылает адский огонь? — опять ехидно спросил Филипп.
— Сын мой, опомнись! За такие слова тебя могут отлучить от церкви.
Анна вспомнила безбожные речи графа Рауля и его гордыню. Неужели ее сын будет таким же безбожником? Не от него ли он воспринял эту дерзость в отношении к богу и презрение к людям?
Филиппу не сиделось за столом. Ему едва исполнилось четырнадцать лет, но его уже влекли к себе многие тайны жизни, от приближения к которым сердце начинает биться в груди, как кузнечный молот.
Вскоре Анна покинула Париж и переселилась в милый ее сердцу Санлис, где все признавали ее своей госпожой. Филипп уже не нуждался в ее советах. У него были теперь другие советники и среди них — граф Рауль де Валуа.
Каждый раз, когда Анна подъезжала по лесной дороге к Санлису и вместе с рощей кончался лесной сумрак, а на возвышении возникал серый каменный замок и такие же угрюмые городские стены, за которыми поблескивали на солнце петушки колоколен, у нее радостно и грустно сжималось сердце. Как будто очень давно она уже видела все это, или, может быть, такое приснилось ей и вдруг встретилось еще раз наяву на жизненном пути.