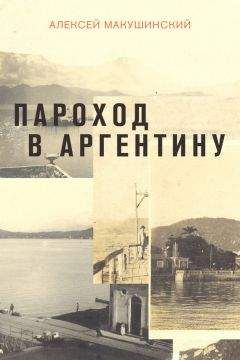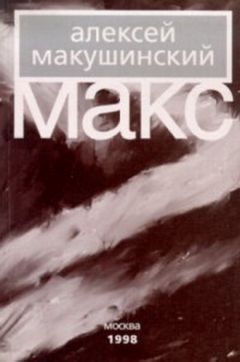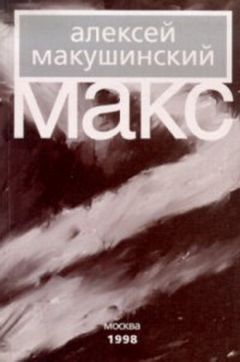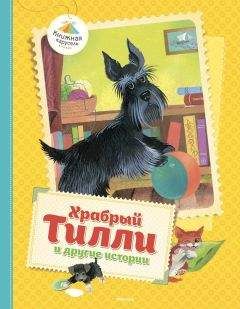Димитрий - Макушинский Алексей Анатольевич
Ты не хотел играть по правилам, Густав? Как я тебя понимаю. Ты не хотел власти, Густав? Что ж, я и это могу понять, пускай вчуже. Но слава, Густав. Но память потомков. Но из рода в роды бегущий звук, могильный глас, хвалебный гул. Но мечта и стремленье до звезд дотянуться макушкой. А разве ты не читал «Илиаду», Густав, скажи мне? Разве не стяжать славу стремятся Ахилл и Гектор, сходясь у стен Трои? Эта слава есть доступное им бессмертие. И что же, Густав, разве не стяжали они это бессмертие, эту славу? Неважно, кто за кем гнался, кто кого победил; мы помним обоих. И обо мне, Густав, пусть я и погибну, еще будут сочинять трагедии, комедии, романы и… что еще? Что захотят, то и будут сочинять, вот что скажу я тебе. А как ты живешь там в Угличе, Густав, в трагическом углу чуждой тебе истории? Зимой выходишь ли к Волге, по льду идешь ли куда глаза глядят, куда ноги несут? Или думаешь об одной ятрохимии, одной спагирии? А пономарь Огурец еще жив? Или тоже сгинул в Пелыме? А Суббота Протопопов? Да уж вижу, не до Субботы тебе Протопопова. Давай позвоним Эрику, Густав? Не хочешь? Стыдно тебе перед ним? Что ж, понимаю. И мне стыдно: за все, перед всеми. Да и рано еще звонить ему. Скоро будет поздно ему звонить, но сейчас еще рано.
На столе, на авансцене стоял телефон, большой и черный (по замечательному замыслу Сергея Сергеевича): один из тех телефонов, какие тогда уже редко, но еще можно было встретить в каких-нибудь учреждениях: жилконторах, химчистглавкотрестах; телефон утробных дооттепельных времен; тех чудных времен, когда алыча еще росла для Лаврентийпалыча, когда еще не потерял он доверия. А у меня доверия ни к кому уже не было, разве что к Маржерету, только к Басманову. По этому-то телефону, в случае чего, собирался я звонить в Стокгольм, звать на помощь Эрика, нареченного моего брата. Случай чего приближался; злоумышлял и все решительней, сызнова, злоумышлял против меня Шуйский (вместе с Муйским), Сергей вместе с Сергеевичем (в роли Шуйского-Муйского). Главное — возбудить народ к революционному действию, говорил Шуйский Муйскому (удовлетворенно раздваиваясь); пропаганда решает все. Шуйский вместе с (наскоро подобранным) Муйским выходили теперь на авансцену, злоумышляя; прочие участники драмы (переходившей в трагедию) в тот момент действия уже и тоже были на сцене (готовясь к финалу), но в глубине ее, так что зритель не видел их. Да и зрителей еще не было, но и зрители уже готовились появиться, собраться, рассесться в угодливых креслах. А в глубине сцены сидели мы, кто на чем. Мария Львовна сидела, конечно, на троне. Марина и Лже на очень обыкновенной скамеечке, рука в руке, в отраде и неге своих собственных злоумышлений; свет софитов, по замечательному замыслу Сергея Сергеевича (в роли Сергея Сергеевича) вдруг выхватывал их.
Возбудить народ к революционному действию — вот что главное, говорил Шуйский Муйскому, злоумышляя на авансцене; пропаганда решает все. Они царька своего любят по-прежнему; так скажем же им, что иноземцы на царька покушаются, что поганые латиняне, проклятые ляхи царя извести собрались, что немчины из его же охраны посягают на жизнь на его драгоценную. Куют, скажем, кровавые ковы против нашего государя возлюбленного. Винные погреба откроем, правильно, Муйский? Правильно, Шуйский! Народ перепьется, так бузить пойдет, что вздрогнет земля, твердь небесная — и та зашатается. Заодно и тюрьмы откроем, выпустим всех воров, всех грабителей, всех убивцев и кровопивцев, всех громил, всех верзил, всех обирал, лиходеев, головорезов и просто мазуриков. Уголовный элемент — наш вернейший сподручник в решении задач государственной важности. Такая замятня начнется, такая буча поднимется, что ой-ой-ой, спасайся кто может; тут-то мы его и прикончим. А потом скажем, что и царек был неправильный; снова и снова скажем, что царек был неправильный. Что он Святую Русь продал полякам, продал папистам, иезуитам, латинянам и всей прочей нечисти, что сам он — Гришка Отрепьев, беглый монах, вор и самозванец, чернокнижник, колдун, ведун, погубитель душ православных. Много раз скажем. А если много раз сказать, и много раз повторить, и снова сказать, и опять повторить, то начинает тебе верить народ-то. Поначалу так себе верит, с оговорками, с переглядами. А еще тыщу раз скажешь и тыщу раз повторишь, со всех амвонов и на всех перекрестках, поверит уже безоглядно. Да не мешает схватить где-нибудь в кабаке, на виду у всех, парочку таких переглядчиков, да свести в околоток, да отдать псарям, да бросить трупы на площади, — народная вера мигом вырастет до небес. Крепка будет вера народная, уж никакие ироды иноземные не поколеблют ее. А все от них, все несчастья. И неурожай от них, и засуха от них, и голод от них, и воровство от них, и пьянство тоже от них. Вот что надо народу внушать и вдалбливать, со всех амвонов, на всех перекрестках. А народ только рад, народ это любит. Покажи ему виноватого, побежит с вилами, все кишки выпустит инородцам, иноплеменцам, заодно и предателям, инодумцам. А того мальчика, что в Угличе закололи, мы выроем, в столицу перенесем, в святые произведем, да в соборе положим. Пусть все знают — нет больше никакого Димитрия, заколот, свят, уже не воскреснет.
Или думаешь, Муйский, другой Димитрий появится? Муйский только руками разводил да подбородком грыбился, не знаю, мол, Шуйский, что тебе и сказать. А он уже появился, другой Димитрий, настоящий самозванец и действительный Лже, уже сидел в глубине сцены в своей многомолнийной черной куртке, вдруг выхваченный светом софитов, рядом с гелиевой Мариной, положив колбаски-сосиски на ее шляхетскую руку, понимая, как и мы все понимали, что народ, хоть он и миф (по неизменному утверждению Макушинского, инодумца-предателя), а все-таки еще верит в подлинного царя, избавителя от неправды, что еще не удалось и так запросто не удастся Шуйскому со товарищи-бояре вытравить из него эту веру, как удалось ее вытравить из московской черни в когда-то симпатичном, раздвоенно-подбородочном, с течением времени все менее симпатичном лице Простоперова, все более, с течением времени, налегавшего на бормотуху.
Нет, сударыня, не утверждаю, что он заявлялся прямо пьяным на репетиции, но после репетиций переходил к бормотухе немедленно. Так удачно переходил, что на репетиции заявлялся если не прямо пьяным, то уж точно с похмелья. Руси есть веселие пити? Святой Вольдемар не прав, а если прав, то лишь в рассуждении той Руси киевской, новгородской, о которой мы с вами, уж скажем друг другу правду, не имеем понятия. Московия пьет мрачно, и чем больше пьет, тем больше мрачнеет. Московия пьет с остервенением. Сперва стервенея, потом стекленея. А потому что ей нравится стервенеть. Сперва стервенеть, потом стекленеть. Потом опять стервенеть. Готов ли ты, народ московский, на лихое дело — ляхам кишки пускать, готов ли ты напасть на них на сонных, на безоружных, готов ли руки-ноги им отсекать, глаза выкалывать, уши и носы обрезать, женщин насиловать, потом избивать, потом убивать? Готов, боярин-батюшка; как же не быть готовым-то? Да мы завсегда, да только слово молви. А понимаешь ли ты, народ московский в приятном лице похмельного Простоперова, что мы тебя этим убивством-кровопивством привяжем к себе навсегда, на века? Что уж нам отныне одна дорога и другой тебе нету? Что стоишь, в затылке чешешь? Стой прямо, смотри веселей. Думаешь и меня предать, если что? Меньше думай, московский народ. Пей, гуляй, режь и грабь. А уж мы за тебя подумаем, мы за тебя решим. Мы ж тебя любим. Кто тебя еще полюбит такого-то? Ну иди, опохмеляйся, московский народ. Позовем, когда понадобишься. Так-то, брат, во всем на нас полагайся. А уж вместе-то мы всех победим — и ляхов, и немчинов, и свейского короля, и турского, если надо будет, салтана. Иди, чего встал? Ишь дурень-то, честное слово. Славный детина, но дурень…
Долго, помню, тянул это «у» в слове «дурень» Сергей Сергеевич (в роли Шуйского-Муйского). Слишком высок был Сергей Сергеевич для роли Шуйского-Муйского, известного своей плюгавостью, гнилозубостью, гнойноглазостью. Но другого не было у нас Шуйского-Муйского; какой был, тот уехал в Америку. Да и прекрасно, что тут скажешь, изображал Сергей Сергеевич Шуйского-Муйского; руки складывал на груди и пальцами шевелил, как истинный Шуйскомуйский; прямо вылитый получался у него, из него Муйско-шуйский. Да и Мнишек, следует признать, блистал в роли Мнишка. Мнишек все толстел и толстел по мере приближения к премьере; в последних сценах на стуле уже едва помещался.