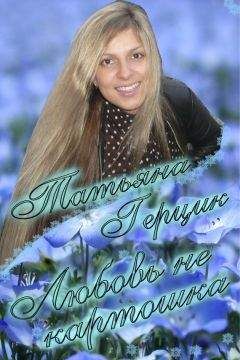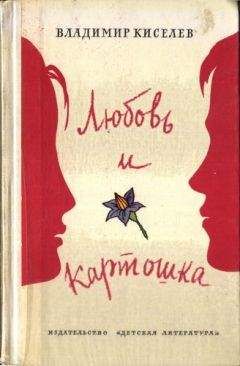Илья Сельвинский - О, юность моя!
Ночью он принес материал Трецеку, и тот снова его похвалил.
— Только почему вы не догадались взять в цирке портрет этого студента? Вы понимаете, какая сенсация: студент местного университета — борец. А? Мальчишки будут хватать газету из рук. Завтра же чтобы мне портрет и биография! Дадим сорок строк. Даже пятьдесят.
Но выжать деньги из Трецека было невозможно.
— Дайте хотя бы на обед.
— Еще что? Мне самому жрать нечего.
— Но в таком случае...
— Надо любить газету, молодой человек. Любить возвышенной, чистой, платонической любовью. Ее пульс, ее лихорадку, самый запах типографской краски. А деньги? За деньги всякий дурак может работать в газете.
Дома Леська застал в своей комнате Акима Васильевича. Он сидел за письменным столом и заканчивал сонет.
— Одну минуту... Вы меня зажгли этой вашей Аллой Ярославной... Я снова стал думать о любви, о Женщине с большой буквы. Вы понимаете, надеюсь? Это... это... Сейчас. Минутку. Посидите.
Старик беспрерывно шарил по бумаге красным карандашом (стихи он всегда писал только красным карандашом). И вдруг загремел:
Сонет!Все, что кончается на «енщина»
И даже попросту на «щина»,
Слыло презреньем: «деревенщина»,
«Хлыстовщина» и «чертовщина».
Такою же была и женщина...
Недосягаемый мужчина
Уверовал, что просто вещь она
Из мужних золота и чина.
Но вдруг она в берлоге дедовой
Себя преобразила в тайну —
И сразу выросла от этого
В Елену, Ченчи и Татьяну.
С тех пор сиянием увенчана
Презрительная кличка — «Женщина».
А. Беспрозванный
Ну? Почему вы молчите? Если вы меня сейчас же не похвалите, я умру.
Леська глядел на Акима Васильевича и думал: до какой степени этот человек не только внешне, но и внутренне не похож на того колдуна, который живет в его стихах. Внешне гораздо больше похож Трецек, но тот уже никак не колдун... Однако старик ждал — и Леська спохватился:
— Очень оригинально! — сказал он.
— А главное верно! — подхватил Аким Васильевич, точно речь шла о стихах какого-то другого автора. — Женщина без тайны — не женщина.
Потом самодовольно улыбнулся и сказал:
— Дважды в жизни поэт пишет о любви хорошо: в юности, когда любовь еще впереди и только мечта, и под старость, когда любовь позади и уже легенда.
— Можно переписать этот сонет на память? — спросил Елисей.
— Наконец-то! Я этого ждал. Тем более что в создании моего сонета есть и ваша заслуга. Обычно когда я пишу, я чувствую себя скованным: опустишь перо в чернильницу, вытащишь, а на нем уже Трецек сидит. По сейчас я написал эту вещь абсолютно свободно. И это... это благодаря... вашей... Алле Ярославне...
Он выбежал в коридор, но тут же вернулся, сморкаясь в смятый платочек.
— Переходим к другому жанру, — сказал он. — Вот я набросал несколько мыслей для вашего письма о любви. Я буду вашим Сирано де Бержераком.
— Э, нет! О моей любви буду писать я сам.
Старик обиделся и вышел почти величаво.
Леська ничего не заметил. Он кинулся к перу и, чуть-чуть высунув кончик языка в сторону, принялся писать:
«Алла Ярославна!
Я понимаю: в сравнении с Вами я ничтожество. Нищий студент. По позвольте мне хотя бы думать о Вас! Мечтать о Вас! Ничего больше! Только мечтать!»
2
Утром, наспех проглотив очередной ломтик сала и с ужасом убедившись, что оно основательно похудело, Елисей побежал к Мишину.
— Сегодня у меня встреча с Залесским, а я голоден, как волк.
— Аванс хотите, бедняжечка?
— Ну да. Меня ветром качает.
— Аванса принципиально не даю, но заправиться вам, конечно, необходимо. Позавтракаете вы у меня, а обедать пойдете со мной в гостиницу.
— Но ведь это те же деньги.
— Нет, не те же. Если я дам вам денег, еще неизвестно, как вы ими распорядитесь. Может быть, пойдете на базар играть с босяками в «три листика», а может быть, преподнесете своей милой букет роз.
— О нет, что вы...
— Да я-то откуда знаю?
Днем Елисей пришел в студию с запозданием, чтобы не встречаться с Мусей. Потом обедал с Мишиным в ресторане. Мишин сам распоряжался меню.
— Жидкого вы есть не будете. Зачем нам напузиваться всяким пойлом? Кельнер! Этому молодому человеку три раза бифштекс: один по-английски, другой по-гамбургски, третий по-деревенски.
— А зачем три разных? — удивился Леська.
— Для коллекции.
Кельнер принес три бифштекса.
— По-английски! — провозгласил он и подал мясо, истекающее горячей кровью.
— По-гамбургски!
Этот был залит яйцом.
— А это по-деревенски? — спросил Леська, увидев третий, осыпанный жареным луком.
— А как же? — сказал Мишин. — В деревне только такой и едят.
«Занятный господин», — подумал Леська.
Потом Леська лизал пломбир и пил апельсиновую воду.
— Ну, как? Сыт?
— Впервые за всю жизнь.
— Отлично. Теперь до схватки ничего не есть.
— Позвольте! Но ведь борьба начнется в двенадцатом часу!
— Все равно. К бою надо выходить голодным. Во-первых, от этого легче сердцу! А во-вторых, злее будешь.
***Вечером в цирке полным-полно. Особенно много студентов.
Вот заиграли марш из «Аиды», арбитр скомандовал: «Парад, алле!» — и на арену, построившись в затылок, вышел чемпионат. Он был очень разнообразен: на борцах— черные, красные, голубые, зеленые трико, у иного алая лента и самоварные медали. Один Леська шагал в своих трусиках, точно выбежал на пляж искупаться. Но светло-шоколадное его тело так блистательно отражало яркие лампионы, а неиспорченная мускулатура, играя, располагалась так пластично, что он казался наряднее всех. Пока гремел марш, Леська озаренно думал о том, что он сегодня же купит сала для прапорщика.
Арбитр начал поименно представлять публике борцов. Каждого встречали хлопками.
— Дауд Хайреддин-оглу (Турция)!
Аплодисменты. Великан выступил на полшага вперед и поклонился.
— Стецюра (Малороссия)!
Шумные аплодисменты (в цирке было много украинцев).
— Ян Залесский (Польша)!
Аплодисменты.
— Чемпион Богемии Марко Сватыно! — объявил, наконец, Мишин.
— Не Сватыно, а Свобода! — крикнул кто-то из задних рядов.
— Да здравствует Марко Свобода!
— И вообще свобода! — подало голос верхотурье.
— Да здравствует свобода! — ревела галерка.
Слово «свобода» варьировалось на все лады.
В конце концов цирк устроил идее свободы овацию, и Марко кланялся, прижимая руку к сердцу.
Полковник делал вид, будто он так же глуп, как и сам Марко. Руки его в белых перчатках аплодировали вместе со всей публикой, не очень, правда, горячо, но все-таки.
Елисея выпустили в третьей паре. Противник его, как было сказано в афише, чемпион Польши Ян Залесский. Оба знали, что Залесский обязан лечь на лопатки после первого перерыва, поэтому упоенно «продавали работу»: резвились на ковре, как дети. Здесь были «мосты», «пируэты», «тур-де-теты» — все, о чем Леська мечтал. На двенадцатой минуте неожиданно для себя Леська оказался победителем и под крики болельщиков торжественно удалился за кулисы.
Здесь к нему подошел Шокарев.
Володя! Дорогой! — искренне обрадовался Бредихин. — Я разыскиваю тебя целую неделю.
— Но ты ведь мог узнать обо мне в адресном столе.
— Мог, но боялся твоего отца.
— Гм... Он, конечно, очень недоволен, но я ему объяснил, что благодаря «Синеусу» мы сохранили квартиру со всеми ценностями, амбар на Катлык-базаре, а главное— «Монай»: не будь там коммуны «Заря новой жизни», крестьяне сожгли бы усадьбу. В общем, подытожили, сбалансировали, и получилось, что игра стоит свеч.
— Ну, вот видишь. Я очень рад.
Пришла Муся Волкова.
— О! И Володя здесь?
Елисей попросил их подождать на конюшне и убежал в борцовскую раздевалку. Володя и Муся бродили вдоль лошадиных стойл и любовались самым красивым зверем на свете — конем. Особенно понравился им вороной жеребец «Бова Королевич».
— Он так блестит, — сказала Муся, — что, глядясь в него, можно поправить прическу.
Вскоре Елисей вышел к своим гостям, совершенно сияя от сознания, что у него триста керенок. Они вышли на улицу и направились в кафе «Чашка чая».
За столиком Шокарев светски ухаживал за Мусей, но Леська держался безразлично.
— Леся! — обратилась Муся к Бредихину. — Ты борешься в трусиках, и это выглядит не очень солидно. Все борцы как будто одеты, а ты словно голый. Тебе надо приобрести глухое трико.
— Спасибо. Подумаю.
— Только не черное, — сказал Шокарев. — Черное делает человека тоньше, а борец должен выглядеть как можно более мощным.