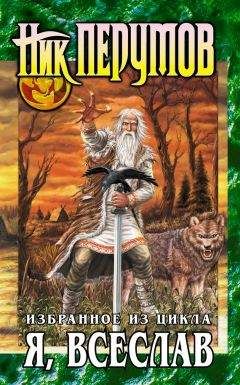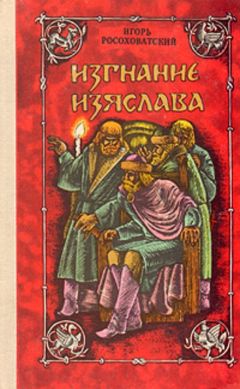Леонид Дайнеко - Всеслав Полоцкий
Когда стихли февральские метели, явился в землянку с едой и питьем маленький человечек. С почтением и страхом глянул на идола, сморщил в мучительном раздумье лобик, спросил:
— А почему ты, человече, к нам пришел? Разве плохо тебе было жить у Бога за пазухой?
— Плохо, — только и ответил Беловолод. Не понравился ему этот бледнолобый — на лице смирение и покорность, а глазки жадные, пристальные и какие-то неподвижные, как две капли бурой болотной воды.
Постепенно степной идол превратился в поганского бога. Угрожающе смотрели из-под крылатых бровей пронзительные глаза, правая рука держала молнии, прижимая их к груди. Широкий и плоский нос стал тоньше. Во всей фигуре бога чувствовались величие и сила.
Чем дальше двигалась работа, тем больше слабел Беловолод. Всю зиму не вылезал из своей землянки, и однажды началось такое головокружение, что в глазах запрыгали зеленые искры, и он вынужден был ухватиться за крюк в стене, чтобы удержаться на ногах. Надо было выбираться на свежий воздух. Через силу донесли его непослушные ноги до низкой двери, хотел открыть ее, но не смог. Тогда он нажал плечом, но и это не помогло, дверь не поддавалась, наверное, за ночь замело снегом. Беловолод опустился на колени, навалился всем телом, начал протискиваться в образовавшуюся щель. Обессиленный, с ободранными руками, выполз он наконец во двор. Стоял яркий солнечный день. Кора на деревьях уже потемнела, в ветвях слышался еле уловимый шум. Значит, скоро весна. А в следах, оставленных ночью на снегу пугливой дикой козочкой, блестят горошины воды.
Беловолод прислонился плечом к сосне, закрыл глаза. Могучие деревья, еще полусонные после долгой зимы, чуть заметно покачивались. Это набирала в них весенний разгон кровь-живица, тоненькими ниточками-струйками текла по еще холодным, но с каждым часом все более оживающим жилам.
Вдруг недалеко в пуще Беловолод увидел кучку людей. Это были не поганцы-язычники, поганцев, их одежду, обычаи, даже походку он уже хорошо знал. Шли мужчины, человек пятнадцать — двадцать. Впереди, держа в руке заостренную на конце палку, бодро вышагивал худой чернявый человек с длинными тонкими усами. Не замечая Беловолода, незнакомцы шли прямо на то дерево, у которого он стоял.
«Гневный!» — Беловолод даже присел от неожиданности. Комочек снега от резкого движения упал на шею, обжег холодом. Сразу вспомнился лес над Свислочью, вспомнились рахманы, подземелье, настороженное сопение в беспросветной темноте. «Снова задурил людям голову и ведет за собой новых рабов. А от боярышни Катеры, наверное, просто удрал…»
Их взгляды встретились. Гневный остановился, на лице его вспыхнуло удивление.
— Снова ты, — сказал Гневный.
— Снова я, — тихо проговорил Беловолод и вцепился пальцами в сосновую кору, чтобы не упасть. — Снова, Ефрем, душа твоя звериной шерстью заросла. Отпусти людей. Пусть возвращаются назад.
Гневный оглянулся и, не обнаружив для себя никакой опасности, медленно поднял палку.
— Замолчи, а иначе я проломлю тебе голову!
Потом приказал своим спутникам:
— Привяжите его веревкой к сосне, а сами пойдем дальше.
Кусая от бессилья губы, Беловолод говорил будущим рахманам, которые старательно исполняли приказ Гневного:
— Не идите вы за этим зверем. Он высосет из вас все соки. Возвращайтесь домой.
— Из меня боярин Анисим уже все, что только можно, высосал, — ровным голосом проговорил один из тех, что обматывали Беловолода веревкой. — Ничего я, брате, уже не боюсь после боярской ласки. Каждый выбирает, что ему больше по губе.
Гневный стоял в нескольких шагах, усмехался. Беловолод хотел крикнуть, позвать на помощь кого-нибудь из поганцев. Вероятнее всего, прибежал бы сам Лют… Но посмотрел на обветренные бескровные лица тех, что пошли за Гневным, увидел их измученные глаза и опустил голову.
Наконец наступил долгожданный день, когда Перуна под выкрики поганцев вытащили на белый свет из тесной землянки, поставили на холме, у подножия которого шумела быстрая лесная речушка. В лесу, в затишках, еще лежал грязно-серый снег, пропитанный полой водой. Темные слоистые тучи комкал ветер. Водяная пыль сеялась с неба. И вдруг загремело вверху. Казалось, кто-то сдвинул с места тяжелый камень. Поганцы попадали на колени. Только Беловолод стоял с непокрытой головой, и пряди русых волос падали ему на глаза, мешали смотреть. Этот ранний гром, гром на голый лес, обещал пустые сусеки и голодные животы, но был вместе с тем и добрым знаком того, что небо заметило нового идола и он понравился ему.
— Так это же наш Лют, — вдруг в наступившей тишине прошептал бледнолобый язычник. Все вздрогнули. И все посмотрели на Люта, потом на Перуна.
IIЛомался на реках лед. Гремело на Днепре у Киева. Гремело на Припяти и на Десне. Черные тучи, сея мокрый снег и дождь, пролетали над прудами и лугами, над городами и весями. Иногда ветер задирал край огромной тучи, и взгляду открывалось такой неожиданной, такой манящей голубизны небо, что становилось весело.
Уже не первую ночь не спалось Всеславу в великокняжеском дворце. Со свечкой в руках медленно ходил он из светлицы в светлицу, из покоя в покой и думал, думал… Он понимал, что в Киеве ему не удержаться. Все были против него: Изяслав и ляхи, бояре и священники, половцы и христиане, смерды и поганцы. Его даже удивляло, что врагов у него завелось, как блох у бездомной собаки. Кажется же, все делал, чтобы только залечить болячки стольного Киева и киян: хлеб раздавал из великокняжеских житниц, прогнал тиунов-лихоимцев и установил княжеский суд, выкупил в Корсуни у ромеев семь тысяч пленных русичей, старался примирить поганцев-перунников с христианами. Не щадя сил склеивал, собирал по кусочку стеклянный сосуд, однако стоило только на миг отнять от него руку, и он снова рассыпался на осколки.
Скверные вести привозили утомленные долгой дорогой гонцы из Новгорода и Переяслава. Борис в Новгороде так и не смог поладить с вечем, с боярами. Выгнали его из детинца, он сел в Городище на Волхове и каждый день заканчивал тем, что пьяным оком смотрел на пустое дно очередной амфоры с ромейским вином. Посадник Роман в Переяславе держал город в железной руке. Но — доносят Всеславу — теснят его из степи половцы, не давая ни дня передышки. Половецкая стрела однажды уже впивалась в выю отважного посадника.
Когда еще лежал в степи глубокий плотный снег, Всеслав поставил половину своей дружины и варягов Торда на лыжи, сам спешился, тоже стал на лыжи и с этой силой неожиданно ударил по шатрам Шарукана. Невиданный переполох подняли, много захватили дорогих попон, жемчуга и серебра, большой полон пригнали в Киев. Но хребет хану так и не сломали.
Тайно от всех приходил ночью в великокняжеский дворец ромей Тарханиот. Снова звал русичей на войну с сельджуками, обещая золотые горы, но Всеслав отказался, твердо ответил, что свой меч и свое копье за край земли Киевской не понесет. Проглотил льстивый ромей обиду, преподнес великому князю серебряную чашу с милиарисиями, а назавтра прислал к великокняжескому столу заморские сладкие плоды, в которых каждое зернышко виднелось в середине, точно были эти плоды стеклянными. Не удержался поваренок-малолеток, откусил кусочек и со страшным хрипением свалился на пол, лицо сразу почернело. Всеслав приказал отыскать кровавого татя и, содрав с него кожу, бросить в кадку с рассолом. Но Тарханиот как сквозь землю провалился. Вместо него приволокли гридни толстого безволосого и безголосого человечка из тех, что за поприще обходят женщин. Человечек назвался Арсением, он упал на колени перед Всеславом, и мокрые толстые губы заползали по княжеской руке. Всеслав с отвращением вырвал свою руку, приказал гридням бить ромея палками, а потом отпустить — пусть идет куда хочет.
И еще один неожиданный гость объявился в Киеве. Нунций папы римского Григория. Был он красив, высок, держал в смуглых руках четки, бусинки для которых вытачивали из маслиновых косточек, а привезли те маслины паломники из святой Палестины. Ехал нунций в Киев через ляшскую землю, видел в Кракове решительного Изяслава. У бывшего великого князя, видно по всему, прошла зимняя спячка, и он собирал полки, сзывал наемников, чтобы кинуть их на Русь, как только подсохнут дороги. «Вода закипит в колодцах, когда я приду», — грозился, по словам нунция, Изяслав.
— Я не пугливый, — сказал, угощая гостя, Всеслав. — Поле и меч решат, кто из нас великий князь. А за кого вы, фрязи?
От ответа на такой вопрос красивый нунций увильнул, проговорил, скромно подняв очи горе:
— Самые спелые яблоки остаются птицам. Они их расклевывают, и сладкий сок течет на землю.
Он влажными черными глазами посмотрел на Всеслава.
— Я — кислое яблоко, — улыбнувшись, сказал Всеслав. — Даже горькое. И знаешь, святой отец, почему? Земля, которая меня родила, дала мне такой вкус.