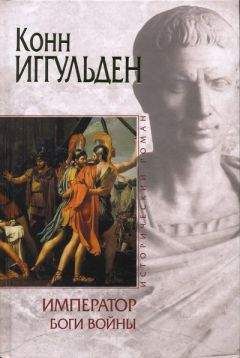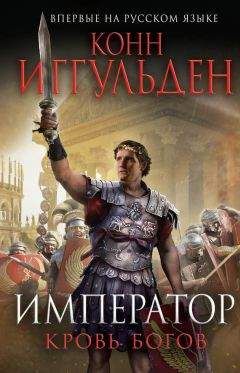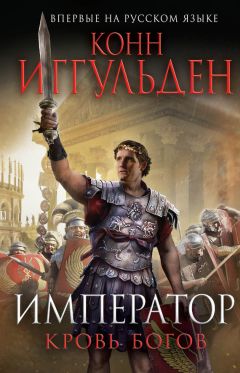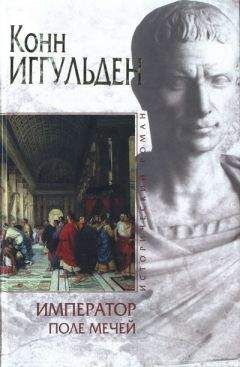Виктор Гюго - Девяносто третий год
Однако пора было уходить. Гальмало, очевидно, находился уже далеко, и маркиз сообразил, что и ему незачем оставаться здесь дольше. Он снова опустил часы в карман, но не в тот самый, в котором они были прежде, так как он только что заметил, что они находятся там в соприкосновении с ключом от железной двери, который незадолго перед началом атаки передал ему Иманус, и что, таким образом, стекло его часов может разбиться о ключ; затем и он собирался было направиться в лес.
Поворачивая влево, он заметил что-то вроде отблеска зарева. Он обернулся и сквозь кустарник, отчетливо выделявшийся на красном фоне в мельчайших своих подробностях, заметил в овраге какой-то яркий свет. Он пошел было в ту сторону, но затем спохватился, что ему незачем оказываться на виду; да и, наконец, какое ему было дело до этого света? Он пошел в том направлении, которое указал ему Гальмало, и стал приближаться к лесу.
Вдруг, уже успев углубиться в терновник и скрыться в нем, он услышал над своей головой страшный крик. Этот крик раздался, по-видимому, с вершины площадки, над самым рвом. Маркиз поднял глаза и остановился.
Книга пятая
IN DEMONE DEUS[7]
I. Найдены, но потеряны
В то время, когда Михалина Флешар увидела башню, залитую красноватым светом заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии чуть больше лье. Несмотря на свою крайнюю усталость, она не задумалась пройти это расстояние. Женщины слабы, но матери сильны.
Итак, она пустилась в путь. Солнце зашло; сначала наступили сумерки, потом — совершенная темнота. По дороге она услышала, как на какой-то отдаленной, но невидимой ею колокольне пробило сначала восемь, потом девять часов; вероятно, то была колокольня в Паринье. Иногда она на секунду останавливалась, прислушиваясь к неопределенным ночным звукам. Она шла все время прямо, ступая стертыми в кровь ногами по дикому терновнику. Она шла на слабый свет, исходивший от отдаленной башни, обрисовывавший ее очертания и придававший ей таинственные формы. Этот свет становился более ярким, когда звуки усиливались, и затем снова исчезал.
Местность, по которой шла Михалина Флешар, поросла травой и вереском; но на всем пути ей не попалось ни одного дома и ни одного дерева. Дорога шла все время в гору и на горизонте как бы упиралась в темное звездное небо. Вид башни, которую она постоянно имела перед глазами, придавал ей силы на то, чтобы совершить этот трудный подъем. Башня медленно, но постоянно росла.
Свет и звуки исходили из башни, как мы только что сказали, с перерывами, представляя собой мучительную загадку для несчастной матери. Вдруг они прекратились; все погасло и замолкло; наступили мертвое, зловещее молчание и темнота.
В эту самую минуту Михалина Флешар дошла до вершины плато. Она увидела у своих ног ров, дно которого терялось среди ночной тьмы. На некотором расстоянии перед собой она увидела колеса, откосы, амбразуры: это была республиканская батарея, а еще далее, при слабом свете тлевших артиллерийских фитилей, она увидела большую постройку, казавшуюся еще более темной, чем окружавшая ее мгла. Постройка эта состояла из моста, быки которого уходили в ров, и из какого-то возвышавшегося на этом мосту здания; и мост и это здание прислонялись к чему-то темному и круглому: это и была башня, составлявшая цель долгого путешествия несчастной матери.
В окнах и амбразурах башни мелькали какие-то тени, и, по доносившимся оттуда звукам, можно было заключить, что то была толпа людей: несколько таких же теней появилось и на верхней площадке башни. Возле батареи были разбиты палатки и стояли часовые; но последние среди глубокой темноты не заметили ее.
Она подошла так близко к мосту, что, казалось, могла достать его рукой; но ее отделял от него ров. Однако сквозь темноту она успела разглядеть, что здание на мосту было трехэтажное. Она остановилась в раздумье и нерешительности перед рвом и этим зданием. Что это было такое? Неужели Ла-Тург? Голова у нее закружилась. Она в недоумении спрашивала себя, зачем она здесь?
Она всматривалась, вслушивалась — и вдруг все скрылось из ее глаз. Густое облако дыма внезапно появилось между нею и тем, на что она смотрела. Яркий свет ударил ей в глаза, и она вынуждена была их зажмурить. Когда она снова раскрыла их, то вокруг нее уже было не темно, а совершенно светло; но то был не яркий солнечный свет, а зловещий свет огня. В нескольких шагах от нее начинался пожар. Дым из черного стал ярко-красным, и из него выбивалось пламя. Оно то появлялось, то опять скрывалось, крутясь и извиваясь, точно молния или змея. Пламя это, словно длинным языком, выходило из какого-то темного пространства: это было окно, решетка которого уже раскалилась докрасна, в нижнем этаже мостового здания. Изо всего здания можно было различить одно только это окно. Дым застилал все, даже возвышенность, и на алом фоне пламени выделялся только край оврага.
Михалина Флешар смотрела с удивлением. Дым — это то же облако; облако — та же мечта. Что ей было делать? Бежать? Оставаться? Она почти утратила всякое осознание действительности.
Порыв ветра несколько рассеял завесу дыма, и сквозь просвет ярко проявились мрачная башня, мост, замок, ослепительные, ужасные, залитые сверху донизу заревом пожара. В этом зловещем освещении Михалина Флешар могла все разглядеть.
Горел нижний этаж мостового здания. Верхние два этажа еще не были тронуты пламенем, и они как бы покоились в огненной корзине. С того места, на котором стояла Михалина, можно было, сквозь дым и огонь, рассмотреть их внутренности. Все окна были отворены.
Сквозь большие и высокие окна второго этажа Михалина Флешар могла различить стены, уставленные шкафами, как ей показалось, — с книгами, и на полу, возле одного из окон, в полутьме, какую-то небольшую группу, похожую на гнездо или на выводок, которая, казалось, время от времени шевелилась.
Она стала всматриваться. Что бы могла означать эта маленькая группа теней? Иногда ей казалось, что это живые существа. У нее была лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она весь день шла, почти не отдыхая, она изнемогала от усталости, у нее было нечто вроде галлюцинации, к которой она сама относилась с инстинктивной подозрительностью; а между тем ее глаза не могли оторваться от этой небольшой загадочной кучки, по-видимому, неодушевленных и неподвижных предметов, лежавших на полу в комнате, приходившейся как раз над горевшею частью здания.
Вдруг пламя, как будто обладая сознательной волей, вытянуло один из своих языков и охватило сухой плющ, покрывавший стену как раз с той стороны, откуда смотрела Михалина Флешар. Казалось, огонь только что заметил эту новую пищу и спешил воспользоваться ею. Он с жадностью схватил ее и стал подниматься по лозе вверх с ужасающей ловкостью бикфордова шнура. В одно мгновение он добрался до второго этажа, и внутренность последнего осветилась. При ярком свете пламени было можно ясно различить трех детей, спокойно спавших на полу, переплетясь руками и ногами, с закрытыми глазами и с улыбками на устах.
Мать узнала своих детей и испустила душераздирающий крик — тот крик, которым могут кричать только матери. Ничто не может быть ужаснее и вместе с тем трогательнее этого крика. Когда его испускает женщина, — кажется, будто слышишь волчицу; когда его испускает волчица, — кажется, будто слышишь женщину. Это был не крик, а рев. «Гекуба залаяла», — говорит Гомер.{386}
Этот-то крик и услышал маркиз Лантенак.
Он, как сказано было выше, остановился между выходом из подземного хода, через который провел его Гальмало, и рвом. Из-под нависшего над ним кустарника он увидел горевший мост, залитую заревом башню, и, над самой своей головой, на краю возвышенности, напротив горевшего здания, освещенную пламенем, с искаженным от ужаса лицом, женщину, наклонившуюся над рвом.
Эта-то женщина и испустила тот крик. Но то была уже не Михалина Флешар, — то была Горгона{387}. Несчастие делает страшным. Крестьянка, превратилась в Эвмениду{388}. Простая поселянка, наивная, грубая, невежественная, вдруг получила чисто эпический облик отчаяния. Великие страдания чрезвычайно преобразуют души. Эта мать в настоящий момент являлась олицетворением материнства. Она стояла здесь, на краю этого рва, перед этим пламенем, перед этим преступлением, как гробовое видение. Ее крик был криком зверя, ее жесты олицетворяли богиню. Лицо ее приняло угрожающее и в то же время лучезарное выражение. Ничего не может быть величественнее блеска глаз, наполненных слезами. Взгляд ее, казалось, вызывал пожар на бой.
Маркиз стал прислушиваться к звукам, доносившимся сверху. В них было что-то невнятное и раздирающее душу; то были скорее рыдания, чем слова.
— О, боже мой! Дети мои! Это мои дети! Помогите! Пожар! Пожар! Да ведь вы разбойники! Неужели здесь никого нет? Дети мои сгорят! Беда, беда! Жоржетта, Гро-Ален, Рене-Жан! Дети мои! Но что бы это могло значить? Как попали туда мои дети? Они спят! Я с ума сойду! Это невозможно! Помогите!