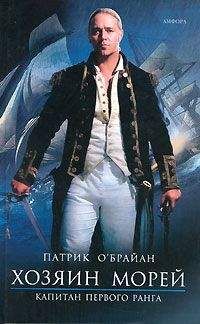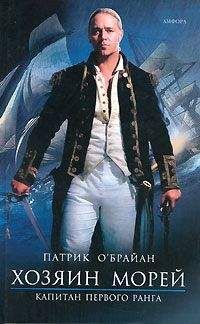Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
— Чего молчишь? — пытал Василий Иваныч.
— Тихо было. Бояре здоровья тебе желали, в церквах за тебя молились.
— Врешь, Ванька, врешь!.. Чего рыло-то воротишь? По глазам вижу… Ну да проведаю, всем воздам!
Поправился, проведал и… не воздал. Лишь тягостно и горько подумал: не было верных бояр и не будет. Каждый лишь о своем пузе печется. И попробуй тронь хоть одного — лай подымут! Кто, мол, на кресте клятву давал, что бояр не тронет? Кто сулил верой и правдой служить боярству? Вот то-то и оно. На чьем возу сидишь, того и песенку пой. Да и не время ныне с боярами тягаться, надо всем скопом думать, как лихолетье пережить. Вот уже под Москвой. Вор грозный.
Думал, советовался с дьяками, хитрил. Чего только не делал царь Василий! И стягивал, стягивал к Москве огромную рать, стягивал всеми правдами и неправдами. Велел пустить слух: на Русь несметной ордой идут татары, надо спешно собирать войско. Скакали по городам и весям гонцы, пугали народ, тормошили воевод и старост, К Москве торопливыми ручьями потекли служилые по прибору, «даточные» и посошные люди. Ведали: с ордынцами шутки плохи, коль сильной ратью не сберешься, всю Русь испепелят.
Крепло, множилось на Москве войско. В самой же столице царь указал думным дьякам переписать мужчин. Приказные люди дотошно облазили все улицы, переулки и слободы, занесли мужчин старше шестнадцати лет в разрядные книги и велели явиться в Съезжие избы. Ослушников ждали батоги и тюрьмы. Вновь поверстанным выдали оружье и сбили в полки.
Но царь жил в постоянной треврге: чернь по-прежнему благоволила Вору, в слободах то тут, то там гуляло бунташное слово. Приказал резать языки, вешать на дыбы, казнить на Ивановской площади и на Болоте, но смута не затихала. «Листы» Ивашки Болотникова будоражили народ.
— Ума не приложу, — по-бабьи всплескивал руками Василий Иваныч. — На Москву без досмотра и комар не проскочит (стрельцы обыскивали каждого въезжающего в город), а воровские «листы» плодятся, как блохи на паршивой овце. Не в приказах ли их стряпают?
Повелел сличить руку дьяков и подьячих, но воровства не нашли. Шуйский накинулся на стрелецких голов.
— Худо Москву блюдете, нечестивцы! Коль так будете службу нести, башки поснимаю.
Но поток воровских грамот не убывал. Иван Болотников засылал на Москву лазутчиков, мятежил посад.
— Надо за Дмитрия Избавителя стоять, за его Большого воеводу! — кричали на торгах и крестцах посадчане.
— Вестимо! Царь Дмитрий никого не пощадит, коль ворота ему не откроем.
Москву обуял страх. Страшилась чернь, страшились купцы, страшилось боярство. Все злей и призывней звучали мятежные речи.
Страшился Шуйский. Вот-вот заполыхает на Москве всеобщий бунт, и тогда уже не только трона не видать, но и ног не унести.
— Только чудо может спасти Москву, — как-то неосторожно обронил в царской крестовой духовник.
— Чудо? — переспросил Василий Иваныч. — Чудо, речешь? — и призадумался. Через день он направился к Гермогену.
— Помогай, святейший.
Патриарх встретил Шуйского сухо. Он не любил царя. Во дворце знали о резких выпадах патриарха против государя, и если бы ни Великая смута, он не благословил бы Шуйского на царство. Патриарху хотелось видеть на троне более достойного помазанника божия.
— Мнится мне, что я токмо оным и занимаюсь, государь.
— Усердие твое велико, святейший. Однако ж церковь могла бы сделать и боле.
Глаза патриарха стали колючими.
— Боле? Аль мало проповедей и грамот моих о еретике и богоотступнике Гришке Отрепьеве? Аль мало проклятий на головы бунтовщиков, кои отступились от Христа, православной веры и покорились сатане? Аль мало дала церковь казны, оружья и монастырских трудников, дабы сокрушить Вора?
— Ведаю, святейший, — кивнул царь Василий.
Но Гермоген осерчало продолжал:
— А не я ль шлю в мятежные города неустанную инокиню Марфу, дабы рекла праведное слово о сыне своем Дмитрии? Не я ль, уступив твоим хитрым и корыстным помыслам, сотворил из Дмитрия Углицкого святого чудотворца и перенес его «нетленные» — ха! — мощи на Москву в благочестивый храм Михаила Архангела? Не я ль денно и нощно пекусь о твоем царствующем сане?
Царь Василий знал: Гермогена, коль войдет в запал, не остановишь. Ну да и пусть, пусть глаголит! О царствующем сане печется, хе. Дудки! О сане патриаршем, о попах, о землях владычных. Бунташное стадо для попов — как бельмо на глазу. И хлеб, и казна мужиком да посадским тяглецом копятся. Ныне же ни мужика, ни тяглеца, вот и усердствует церковь божья.
Патриарх Гермоген отнесся к восстанию черни с необычайной жестокостью. Его грамоты и проповеди были злы и пугающи, грозили «богоотступникам» страшными муками, адом, отлучением от христовой церкви. Неистовые, устрашающие грамоты патриарха не раз приводили в трепет города и села, внося раскол в обширнейший лагерь повстанцев. Лют был к воровской черни владыка Гермоген!
Дав выговориться патриарху, Василий Иваныч, никогда открыто не вступавший с Гермогеном в спор, учтиво молвил:
— Твое радение, святейший, зачтется богом. Мы ж, государь Московский, побив Вора, вернем долги церкви сторицей. О том не одиножды нами в Думе сказано.
«Вернешь, — желчно поджал губы Гермоген, — когда черт помрет, а он еще и не хворал». (Шуйский и будучи царем оставался великим скупердяем.)
— С чем пожаловал, государь? Аль вновь какая нужда?
— Вестимо, владыка, — царь откинулся в кресло, сощурил блеклые воспаленные глаза. (Государь, потеряв покой, потерял и сон.) Дряблое, узкобородое лицо стало хитреньким, щучьим.
Ох как не терпел это лицо Гермоген! Сейчас какую-нибудь пакость вывернет.
— Задумка в голову пала. Коль в дело ее пустить, у воров скамью Из-под ног вырвем. Лишь бы ты благословил, святейший.
— Говори.
— Надо бы недельный пост по всей Руси огласить. Ныне же огласить, святейший.
— Что-о-о? — у патриарха от изумления аж губы затряслись. Всего ожидал от Шуйского, но такого! — Да в своем ли ты уме, государь? Посты раз и навсегда установлены. До Филиппова же заговенья пять недель. Что за надобность?
— Видение было, святейший.
— Кому? — сердито выкрикнул Гермоген.
— Одному духовному лицу, кой поведал о чудесном видении благовещенскому протопопу Терентию.
«Видение» явилось самому Василию Шуйскому, он же, под строжайшей тайной, вдолбил его «одному духовному лицу». А тот поведал протопопу Терентию: было-де ему чудесное видение во сне, что сам Христос явился в Успенском соборе и вел беседу с Богородицей. Христос-де был в великом гневе и грозил страшною казнью московскому народу, кой досаждает ему лукавыми своими делами и сквернословием; приняли-де мерзкие обычаи, стригут бороды, содомские дела творят и суд неправедный, грабят чуждые имения. Богородица слезно просила Христа пощадить людей, на что тот ответил: «Много раз хотел помиловать их, мать моя, твоих ради молитв, но раздражают душу мою их окаянные стыдные дела, и сего ради, мать моя, изыди от места сего, и все святые с тобой; аз же предам их кровоядцев и немилостивых разбойников, да накажутся малодушные и придут в чувство, и тогда пощажу их». Богородица же три дня и три ночи умоляет Христа пощадить грешников, и Христос наконец смягчается: «Тебя ради, мать моя, пощажу их, если покаются; если же не покаются, то милости моей не будет, и быть всем разбойникам и кровоядцам на скором страшном суде».
— Чуешь, святейший? Смута — это гнев божий, наказание, посланное богом за грехи мирские. У черни единственный путь к спасению — покаяние! Прекратить воровство и покаяться, дабы не навлекать на себя гнева божьего. Каково? — лицо тожествующее, шельмовское.
Гермоген смотрел на Шуйского и лишний раз убеждался в изощренности, изворотливости, лукавости его ума. Неистощим на коварные выдумки царь Василий!
— Всеобщим покаянием разложить и смирить бунташную чернь? Отпугнуть христиан от мятежников? Сплотить их вокруг царя и церкви?
— Так, так, владыка! — загорелся царь Василий. — Чудесное видение, кое протопоп Терентий записал на бумагу, надо немедля прочесть по всем храмам. Пусть люди ведают о своем тяжком грехе, пусть его замаливают и постятся. Благослови на сие богоугодное дело, святейший.
— Я подумаю об оном видении, государь. Вечор пришлю к тебе послушника.
Гермоген, хоть и презирал царя, но новое «чудо» ему пришлось по душе. Какая бы смута по Руси ни гуляла, но мужики и посадские христолюбивы, им не отринуть бога, он накрепко сидит в их душах, и в этом великая сила царя, патриарха, державы. Силу же оную надо умненько в дело пустить.
«Повесть о видении некоему мужу духовну» по царскому велению была оглашена двенадцатого октября в Успенском соборе «вслух во весь народ, а миру собрание велико было». Патриарх объявил с амвона шестидневный пост, во время которого «молебны пели и по всем храмам и бога молили за царя и за все православное крестьянство, чтобы господь бог отвратил от нас праведный свой гнев и укротил бы межусобную брань и устроил бы мирне и безмятежне все грады и страны Московского государства в бесконечные веки».