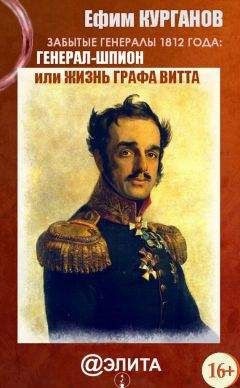В. Мауль - Русский бунт
Безусловно, в источниках имеются и более лояльные свидетельства о поведении Пугачева в плену и во время казни. Один из современников, стоявший возле эшафота, написал: «Страх не был заметен на лице Пугачева. Он с большим присутствием духа сидел на скамейке, держа в руке горящую свечу, и именем Бога просил у всех прощения... Пугачев вошел на эшафот по лестнице... [его] раздевали, и он сам им с живостью помогал» [5; 548].
И. И. Дмитриев в своих мемуарах писал, что не заметил в чертах лица Пугачева «ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицом смугл и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый; волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином» [69; 180].
Однако подчеркнем, что депрессия, отчаяние, заторможенность не обязательно должны быть симптомами именно страха. В трусости Пугачева никто не обвиняет, однако героизировать его поведение на эшафоте тоже, думается, нет оснований. Заметим, что подобное «онемение», «оцепенение», «ошеломление» и другие реактивные признаки были свойственны и многим пугачевским сподвижникам, также оказавшимся в плену. Слишком внезапным и трагичным оказался для них эпилог игры. Отсюда и депрессивный психоз, заторможенность всех психических реакций и т. п. Считать их только обычным поведением человека накануне казни (может ли человек накануне казни вести себя обычно?), как представляется, едва ли достаточно для понимания культурной символики рассматриваемой ситуации.
Будучи одним из «текстов» традиционной культуры, пугачевский бунт в игровом поведении бунтовщиков реализовывал свою родовую связь с архаическим прошлым. Читаемый на «языке» традиционализма, он придавал глубокую социокультурную значимость каждому «жесту» участников, творивших игру.
Поскольку бунт – это сигнал тревоги об общем бедствии, о кризисе общественной идентичности, чтобы быть понятым, он должен был восприниматься на родном для него языке, т. е. на том, на котором и он писал свой «текст». Поэтому важным и несомненным результатом пугачевской «игры в царя» можно считать также то, что бунтовщикам удалось заставить дворянство оживить в своей памяти знакомый им прежде, но уже, казалось, забытый язык традиционной культуры.
Сюжеты, символы и смыслы казней в стане Е. И. Пугачева
Приступая к рассмотрению обозначенной проблемы, будем говорить в основном об открытых случаях массового прямого насилия в виде казни бунтовщиками тех, кого они считали своими врагами. Именно казнь как высшая и самая страшная форма насилия станет объектом анализа.
Особую важность приобретут мельчайшие детали всего процесса казней, от их подготовки до совершения, что позволит рассмотреть культурно-символическое содержание повстанческих расправ. Например, как символическое явление исследователи представляют опричные казни Ивана Грозного. Они «превращались в своеобразное русское чистилище перед Страшным судом. Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божией по наказанию человеческого греха и утверждению истинного “благочестия” не только во спасение собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть». Смысловые истоки казней, которые чинились опричниками, видятся прежде всего в библейско-христианской традиции, хотя местами прямо указано на их мировую, в том числе и славянскую, мифо-символическую природу. Так, анализируя жестокие расправы Грозного над новгородцами, историки отмечают: «Мост через Волхов был, видимо, выбран царем специально: горящие люди со связанными руками и ногами попадают в холодную реку. Мост этот, судя по всему, был для царя символом наказания грешников, которым уготована “вечная мука”». Такие действия опричников вполне понятны на ритуально-символическом языке своей эпохи: «Река и мост испытания – древнейшие образы индоевропейской мифологии... Огненные река и озеро – непременные атрибуты ада и Страшного суда; адский огонь иногда символически изображался в кипящем котле». Специальным интерпретациям ученых подверглись и рассечение человеческого тела, и растерзание животными, и другие казни, применявшиеся опричниками. Они также получили соответствующие смысловые истолкования [142; 54 – 56].
Предлагаемые исследовательские подходы вполне допустимы, поскольку речь идет об «изобретательности» Ивана Грозного, отличавшегося хорошим знанием библейских традиций и евангелических текстов. Но они едва ли достаточны для понимания действий широких народных масс, когда те брались за оружие.
В одной из полемических статей при оценке историографических стереотипов в изучении народных движений, справедливо обращалось внимание на «игнорирование их разбойного характера», на то, что «негативные их стороны остались за пределами внимания авторов» [71; 91]. В лучшем случае ученые лишь констатировали факты убийств и расправ бунтовщиков со своими противниками. Но от констатации повстанческого насилия до понимания его природы – большая дистанция.
Обращение к этой стороне проблемы требует изучения психических установок и поведенческих стереотипов, которые формировали потенциальную готовность простонародья к насильственным действиям. Необходимо также изучить механизмы, приводившие в действие «дремлющую» деструктивную энергию масс, заставлявшие общественные низы прибегать к ничем не сдерживаемым жестокостям против тех, кто находился по другую сторону баррикад. Для этого требуется, так сказать, «влезть в душу» повстанцев, попытаться понять внутреннюю мотивацию их про-тестных «жестов» на социокультурном фоне переходной эпохи.
Как известно, положение социальных низов в рамках традиционной системы определялось так называемой динамической адаптацией. Они вынужденно подчинялись строгому и суровому государству, так как боялись его. Здесь срабатывала властная потребность самосохранения, которая вынуждала человека принимать те условия, в которых ему приходилось жить. В то время как простолюдины приспосабливались к неизбежной ситуации, в них развивалась враждебность, которую они подавляли. Эта подавленная враждебность становилась динамическим фактором их характера, хотя в обыденной жизни она могла никак и не проявляться. Необходимы были дополнительные обстоятельства, чтобы подавленная агрессивность вылилась в протестные действия, как это не раз случалось в истории Руси/России.
Природа народного насилия во многом «замешана» на характерном для традиционной ментальности отношении к смерти, которая еще не осознавалась в качестве личной драмы и вообще не воспринималась как индивидуальный по преимуществу акт. В ритуалах, окружавших и сопровождавших кончину индивида, выражалась солидарность с семьей и обществом. Но и самый этот уход не воспринимался как полный и бесповоротный разрыв, поскольку между миром живых и миром мертвых не ощущалось непроходимой пропасти. Смерть утрачивала оттенок трагичности в глазах средневекового человека и вследствие его сугубо религиозной убежденности в том, что она является лишь своеобразным знаковым переходом из одной ипостаси в другую, в которой каждому уготована новая жизнь. Поэтому люди средневековья относились к смерти как к обыденному явлению, которое не внушало им особых страхов, она воспринималась в качестве естественной неизбежности.
К тому же в традиционном обществе человеческая жизнь ценилась необычайно низко. Многочисленные примеры показывают легкость, с какой тогда совершались убийства, распространенность детоубийств и т. п. Факторами, их обусловливавшими, могли служить многочисленные стихийные бедствия, когда в результате возникавшего голода развивались людоедство и трупоедство, как это было, например, по свидетельствам современников, в 1601 – 1603 годах в России. Массовая и частая гибель людей притупляла чувство утраты, развивались апатия и индифферентизм.
Соответствующие взгляды формировались и благодаря практиковавшимся государственной властью публичным казням. Наказания были своего рода театром, массовым представлением, красочной церемонией, которые были сродни, а иногда даже превосходили в варварстве само преступление. Они прививали населению вкус к кровавым зрелищам, в которых смерть играла заглавную роль, приучали зрителей к жестокости. Например, Соборное уложение 1649 года предусматривало пять видов смертной казни, но реальная практика не ограничивалась ими, а прибегала и к другим способам исполнения этой меры наказания. Однако «ужасы повешения, колесования, четвертования и другие изуверские способы смертной казни нисколько не возмущали общественное мнение... Ужасы смертной казни не производили какого-либо потрясающего впечатления, не вызывали протеста и отвращения» [137; 24, 28 – 29].
Наказание кнутом. Гравюра (XVIII век).
Поскольку важным аспектом традиционной мен-тальности являлась подражательность, органично присущая народному сознанию, она могла проявляться, например, в копировании внешних церемониальных форм и логики функционирования государственного репрессивного аппарата. Суть этой логики заключалась не только в стремлении наказать подлинных виновников, но и продемонстрировать свое полное господство над жизнью и судьбой человека, ибо они, как считалось, полностью принадлежат Богу и государю, который волен распоряжаться ими по своему усмотрению.