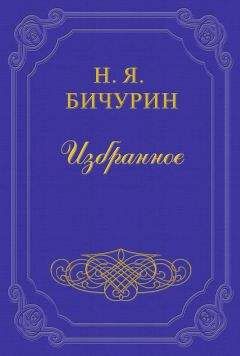Карел Шульц - Камень и боль
Солнечный бык Апис.
Здесь подолгу стоял папа в глубоком раздумье, por lo bajo, в уединении. Древняя темная тайна проступала все явственней. Ибо солнечный золотой бык Борджа — не миф, а живая действительность. Здесь стоял папа, когда дважды закачалась его тиара, а все-таки не свалилась совсем. Здесь стоял он, когда многие римские бароны подняли голову, когда не только Орсини и Колонна, но и множество других: де Анджелис, Чиприани, Синьоретти, Синибальди, Тартари, Леони, Ченчи, Реццози, Пики, Ильперини, Катаньи, Санта-Кроче, Барбарини, Джаноцци, Оддони, Баффи, Сальвиати, Вульгамини, Цуккари, Капогалли — стали виться, как оводы, вокруг золотого быка. Здесь стоял он, узнав, что кардинал Джулиано уехал ночью во Францию. Здесь стоял после того, как велел задержать канцлера церкви, кардинала Асканио Сфорца. Здесь стоял много раз и еще не раз остановится.
Французы подкатывались ближе и ближе к Риму. Они наступают через Тоскану, уже вступили во Флоренцию, — через сколько же дней будут они у ворот Вечного города? И Александр Шестой вдруг выпрямился, словно встал с папского престола. Он был в коротком черном испанском камзоле с желтой оторочкой, на голове — берет, на поясе — узкий, длинный испанский меч. Он стоял гордый, уверенный в себе, вперив острый взгляд в золотого быка, жест руки — властный, повелительный. Бык, золотой бык, только от солнечного луча зачатый, согласно древнему мифу египетских тайных культов, бык Апис, живое подобие вечного Осириса в божественном числе три.
С соседнего люнета на него глядел золотой бык Борджа. Оба тонули в сумерках осеннего вечера.
Папа ждал врага, гордо улыбаясь.
МЕРТВЫЙ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
Танцовщица Аминта сидела на низкой табуретке, подперев подбородок ладонями, тихая и неподвижная, прислушиваясь у шуму дождя в садах. Потом медленно опустила руки, плавно поднялась и подошла к окну. Долго стояла там без движения, словно заколдованная в стекле, — казалось, отойди она прочь, на нем останется очертание ее стройного тела. Но она вдруг сразу разрушила этот молчаливый стеклянный образ: резко повернулась и прошла взад и вперед по комнате, сжав руки от нетерпенья и прищурившись. Цветы в вазе были уже вялые, словно плесневеющие, и ей почему-то показалось, что от них в комнате дурной запах, она выдернула их из вазы и открыла окно, чтобы выбросить. Сырой, пасмурный день, полный дождя, дохнул ей в лицо, и это было отрадно. Она осталась у окна, дыша осенью, грустью и многим, чего не умела назвать. Но потом ее вдруг пробрало холодом, потому что она была голая — в ожидании любовника, который не пришел. Она выбросила увядшие цветы, закрыла окно, опять нетерпеливо прошла взад и вперед по комнате и от нечего делать распустила свои волосы, прекрасные, длинные и очень светлые, что до сих пор было в моде — со времен Лауры и Беатриче. Она знала, что волосы у нее красивые, и ухаживала за ними, часто мыла их в отваре плющевого корня с ревенем, иногда прибавляя для большего блеска немного селитры, сваренной с тмином. Она гордилась тем, что волосы у нее светлые от природы и ей не надо прибегать к сложным смешениям красок, как вынуждены делать те, которые красят себе волосы дорогими снадобьями, покупаемыми тайно у знахарей и бабок, и часами, до одури и головокружения, просиживают на солнцепеке. У нее волосы всегда светлые, блестящие, красивые, брови — черные, изогнутые, цвет лица — белый, очень нежный, так что ей не надо пользоваться притираниями, приготовляемыми из адраганта, серебра и сублимата, вложенных в голубиные потроха и тушенных в горшке, с медленным подливанием воды, в которой был сварен уж. Это средство для белизны и чистоты лица изобрела Катарина Сфорца, оно превосходное, им пользовались и Альфонсина Орсини, и все знатные флорентийские дамы, но танцовщице Аминте было смешно думать о том, чтобы вдруг натирать свое тело и лицо мазью, запеченной в голубе, на которого поливают ужиным наваром. Ей это ни к чему.
Пока Аминта расчесывала свои пышные, длинные светлые волосы перед венецианским зеркалом, подарком юного Джулиано Медичи, которого она избавила от задумчивости, но не могла отучить от философии, мысли ее разбрелись в разные стороны. Дождливый день вновь навеял печаль, угнетавшую ее с самого пробуждения до сумерек. События не интересовали ее, ей было безразлично, где там наступают французы и когда они появятся здесь, во Флоренции. Ей решительно все равно, танцевать ли в пантомимах перед неаполитанскими дворянами, папскими или французскими, — это стало решительно все равно после смерти Лоренцо Маньифико, времена которого никогда уж не вернутся и ничем их не заменишь. Величие и все очарование жизни исчезло вместе с жизнью Лоренцо, все, что творится на Пьеровых празднествах, — смешно, просто нелепая карикатура, подделка какая-то под прежние празднества и развлечения. И Аминта, распустив волосы, стала вспоминать лучшую свою роль, — когда она танцевала нимфу Аретузу, и с таким успехом, что пьесу пришлось повторить, и все молодые патриции влюбились в нее, осыпая ее подарками и клянясь своим родом и именем. Пьер не отважился бы теперь устроить карнавал, где изображалось бы бегство нимфы Аретузы. Кто пришел бы смотреть? Савонарола со своими монахами?
Расчесывая длинными движениями свои волосы, словно набирая в ладони тишину, женщина приподымала их и опять отпускала к земле, взвесив их тяжесть. Падали волны волос, и падал дождь за окнами; женщина, причесывающаяся при дожде, всегда полна легких грез и очарованности. Золото волос и волны тишины, шум дождя, стройные нагие руки, любовные воспоминания. Это была как бы игра, в которой кости могли выпадать в разнообразнейших сочетаниях. Воспоминания, золото волос и шум дождя, нагие стройные руки, волны тишины. Волны тишины, нагие руки, золото волос, воспоминания, любовь. Дождь, золото волос, воспоминания нагих рук, любовь и мечта, прилив и отлив тишины. И еще многое другое. Но внешне это были только длинные, протяжные движения, которыми она расчесывала свои волосы. Словно ручьи поют, так звучали волосы у нее в руках, и красота ее обновлялась над челом, над нагой шеей. В этих волосах — тепло и холод, былое и скорбь, поцелуи и ласки, печаль и радость, они улыбались и рыдали, — это были волосы женщины и, значит, всегда таинственные. Расчесывая их, она блуждала в своих прошлых днях и при этом думала о будущих минутах, потому что как ручьи поют, так звучали волосы в ее руках, и порой она словно касалась тут озерной глубины, а там — лишь лунного света, здесь — оставшихся следов ласк, там — огня страсти, а там еще — одиночества среди теней, — и все это было богатством ее волос, их тайной речью и их молчанием. А дождь за окном шелестел, как длинная песня тоски.
Потом она кончила причесываться, повернулась и оглядела себя в зеркало, как чужую. Но лицо той, другой, было слишком похоже на ее лицо, — две красивые сестры, одна живая, другая — ее отражение, одна настоящая, другая из стекла, но волосы у обеих одинаковые, — ей пришлось снова думать о любви.
Значит, Франческо Граначчи не пришел. На последний его сонет она ответила своим сонетом, в котором ясно дала ему понять, что ждет его сегодня. Он не пришел! Граначчи — прекрасный юноша, ведущий жизнь, полную отречения. И она тоже еще прекрасна. Гибкая, стройная нагота ее с упругими грудями снова засверкала в зеркале, подарке философа. Две нагие сестры, глядящие друг на друга, внимательно друг друга осматривающие, нагота, блестящая в зеркале под тихий шелест дождя, две нагие сестры, одна — из стекла, но, судя по задумчивому взгляду, все время ожидающая, как и та, живая. Отчего Франческо такой? Его сонет говорил о любви, которая никогда уже не проснется после мертвого объятия, но теперь — напрасно зарытая жжет, как погребенное солнце, сонет его говорил об обетах, давних и полных боли и отречения, о любви, ожившей при взгляде на нее, о любви, смеющейся мукам, любви, суровой, как лавр… Она не поняла и в своем сонете написала о любви ожидающей, идущей навстречу с простертыми руками. А он не пришел. Мне хочется, чтоб он был здесь. В такой час тоски и печали, час дождя, час любви — почему он не пришел?.. Хочется, чтоб он был здесь, чтоб смотрел на меня своим полным отреченья взглядом, чтоб был здесь. День печален, я поставила нынче две свечи в церкви — о том, чтоб он пришел, молилась о том, чтоб пришел. Не понимаю его стихов, может быть, тут скрыто какое-то несчастье, но я не перестану томиться о нем наперекор всему. Тоска, мертвый день, идет дождь, город как будто вымер, небо как будто охвачено страхом и жаждет крови, по улицам ко двору Медичи непрерывно тянутся какие-то вооруженные, он не пришел, не придет, со мной говорят одни эти долгие часы дождя, я гляжу только на самое себя в зеркало. Никогда не представляла себе так свое томленье, я готова себя возненавидеть, возьму и разобью зеркало, значит, мне суждено остаться одной, навсегда одной, будут опять весенние и летние розы, весенние и летние поцелуи, весенние и летние губы, опять, а я буду всегда одна, — так всегда: когда любишь сильней всего, остаешься одна… Он не пришел, теперь все равно, кто ни придет, неаполитанские, испанские, французские ли рыцари, уже не вернутся времена Аретузы, которая потом превратилась в источник, но и возлюбленный ее, от которого она убежала, — тоже, чтоб соединиться с ней, превратился в источник, и оба они оказались в глубях подземных, в глубях без солнца, на темных подземных дорогах, там оказались и слились друг с другом, а потом уже вышли одною рекой на земную поверхность, два потока в едином теченье, вместе катятся волны, волны любви, волны волос, тишины, одиночества, волны речные…