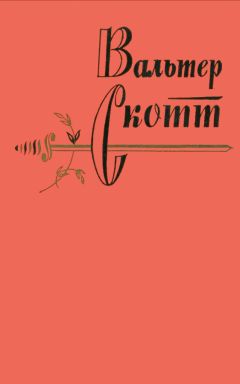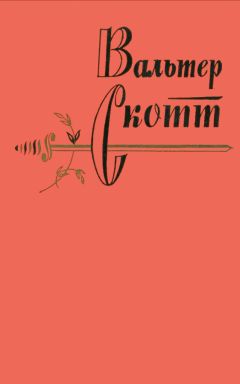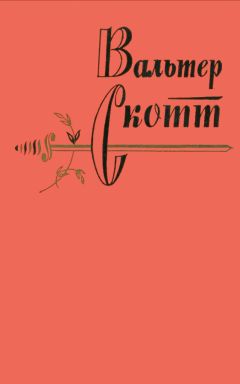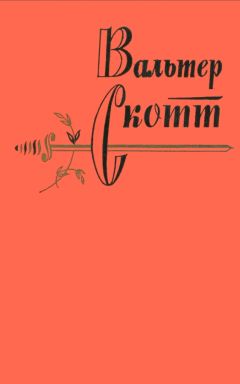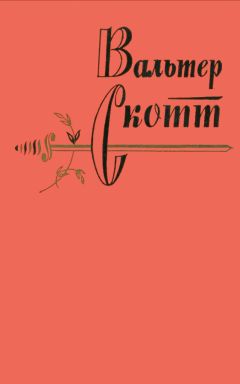Вальтер Скотт - Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 1
— Мистер Уэверли, — сказал майор, — мое нынешнее положение в равной мере не позволяет мне наносить и принимать оскорбления, поэтому я не буду продолжать объяснение, которое к этому клонится. Боюсь, что мне придется подписать приказ о содержании вас под стражей, но пока тюрьмой для вас послужит этот дом. Не думаю, чтобы мне удалось убедить вас разделить с нами ужин (Эдуард отрицательно покачал головой), но я прикажу подать его в отведенное вам помещение.
Наш герой поклонился и прошел под конвоем полицейских в небольшую, но изящно обставленную комнату, где, отказавшись от предложенной еды и вина, бросился на кровать и, обессилев от тревог и душевного напряжения этого несчастного дня, забылся глубоким и тяжелым сном. На это он, верно, и сам не рассчитывал; но говорят, что североамериканские индейцы, когда их пытают, способны заснуть, едва лишь на миг прекращаются их мучения, и спят до тех пор, пока их снова не станут терзать огнем.
Глава XXXII СОВЕЩАНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Майор Мелвил попросил мистера Мортона присутствовать на допросе, во-первых, считая, что он сможет использовать его здравый смысл в практических делах и преданность королевскому дому, и, во-вторых, желая иметь безупречно честного и правдивого человека свидетелем действий, от которых зависела честь и жизнь знатного молодого англичанина, наследника значительного богатства. Он знал, что каждый его шаг будет разбираться самым строгим образом, и ему важно было не допустить каких-либо сомнений в своей беспристрастности и неподкупности.
После ухода Уэверли лэрд и священник молча сели за ужин. В присутствии слуг ни один из них не хотел касаться предмета, занимавшего их обоих, а говорить о чем-либо другом было нелегко. Молодость и явная откровенность Уэверли составляли разительный контраст с мрачными подозрениями, которые сгущались вокруг него. В его манере была какая-то наивность и простосердечие, которые не вязались с образом прожженного интригана и заговорщика, и это сильно располагало в его пользу.
Оба задумались над подробностями допроса, но каждый расценивал их сообразно со своими чувствами. Эти люди обладали и живым умом и проницательностью, они в равной мере были способны сопоставить различные части показания и сделать из них необходимые заключения, но привычки их и воспитание были настолько различны, что из одних и тех же предпосылок выводы у них получались совершенно непохожие.
Майор Мелвил всю свою жизнь провел либо в военных лагерях, либо в крупных городах; он был бдителен по роду своих занятий и осторожен пожизненному опыту; зла на своем веку он видел много, а потому, хоть и был справедливый блюститель закона и честный человек, к людям относился строго, а подчас и с излишней суровостью. Мистер Мортон, напротив, перешел от мира книг своего колледжа к простой и покойной жизни сельского пастора. Встречаться с дурными людьми ему приходилось редко, и обращал он на них свое внимание лишь для того, чтобы пробудить в них раскаяние и желание исправиться. Кроме того, прихожане настолько любили и уважали его за ласку и заботы, что, желая отплатить ему добром и зная, какую острую боль причиняют ему их отступления от правильного пути, наставлять на который было делом его жизни, скрывали от него свои дурные поступки. Таким образом, хотя имена лэрда и пастора пользовались в округе одинаковой популярностью, там сложилась поговорка, что лэрд знает одно лишь худое в приходе, а священник — одно лишь хорошее.
Пристрастие к изящной литературе, которое ему приходилось сдерживать, чтобы оно не мешало его богословским занятиям и пасторским обязанностям, также являлось одной из отличительных черт священника. Это влечение научило его в молодые годы понимать романтику, и эта способность не вполне утратилась под влиянием событий его последующей жизни. Ранняя смерть прелестной молодой жены, которую он избрал по любви, и единственного сына, вскоре последовавшего за матерью, наложили на него неизгладимый отпечаток. Даже спустя много лет после этого горя в его характере, и без того мягком и созерцательном, замечалась особая чувствительность. Понятно поэтому, что в настоящем случае он относился к делу совсем не так, как суровый приверженец дисциплины, строгий блюститель закона и недоверчивый светский человек, каким был лэрд.
Молчание продолжалось и после того, как удалились слуги, пока майор Мелвил, наполнив свой стакан и пододвинув бутылку к мистеру Мортону, не сказал:
— Скверное это дело, мистер Мортон. Как бы этот юноша не довел себя до петли.
— Боже упаси! — воскликнул священник.
— Аминь, — сказал представитель светской власти.— Но я думаю, что даже ваша всепрощающая логика не в силах отвергнуть очевидные выводы.
— Но, майор, — ответил священник, — я надеюсь, что подобный исход можно было бы предотвратить: ведь сегодня вечером мы ничего безнадежно компрометирующего не слышали.
— Вот как! — заметил Мелвил. — Но, добрейший мистер Мортон, вы один из тех, кто готов был бы перенести на любого преступника привилегию духовенства.
— Без сомнения. Милосердие и долготерпение — основы того учения, которое я призван проповедовать.
— С точки зрения религии это справедливо. Но милосердие по отношению к преступнику может быть грубой несправедливостью к обществу. Я не имею в виду именно этого молодого человека. Я от всей души желаю, чтоб он обелил себя, так как мне по душе и его скромность и мужество. Но я боюсь, что он сам вырыл себе могилу.
— А почему? Сотни дворян, вступивших на ложный путь, подняли теперь оружие против правительства; многие, без сомнения, руководились при этом принципами, которые их воспитание и впитанные с детства предрассудки освятили названиями патриотизма и героизма. Правосудие, когда оно будет выбирать своих жертв из этого множества (ибо не станет же оно уничтожать всех!), должно прежде всего принять во внимание нравственные побуждения. Пусть жертвой законов падет тот, кто задумал нарушить порядок благоустроенного правления из честолюбия или в надежде на собственное возвышение; но неужели юность, увлеченная необузданными рыцарскими мечтами и воображаемой преданностью монарху, не заслуживает прощенья?
— Если эти рыцарские мечты и воображаемая преданность подходят под понятие государственной измены, — ответил Мелвил, — я не знаю суда во всем христианском мире, где бы они могли сослаться на Habeas corpus.[140]
— Но я не вижу, чтобы вина этого юноши была установлена с какой-либо степенью убедительности, — сказал священник.
— Потому что у вас доброта ослепляет здравый рассудок, — возразил майор. — Теперь послушайте: этот молодой человек происходит из семьи потомственных якобитов, его дядя — глава консерваторов в графстве***, отец — впавший в немилость и недовольный придворный, а наставник — отказавшийся от присяги священник, автор двух противоправительственных трактатов. Так вот, этот юноша поступает в драгунский полк Гардинера и приводит с собой целый отряд молодых людей из имения своего дяди, которые, не стесняясь, в спорах с товарищами по-своему высказывают свои симпатии к Высокой церкви, приобретенные в Уэверли-Оноре. К этим молодым людям Уэверли проявляет необычайное внимание; он дает им деньги в количестве, значительно превышающем потребности солдата, и подрывает этим дисциплину; во главе их стоит любимый сержант, через которого они поддерживают необычайно тесную связь со своим капитаном; эти рекруты становятся в независимое от других офицеров положение и смотрят свысока на своих товарищей.
— Все это, мой дорогой майор, естественно вытекает из их привязанности к своему молодому господину и из того, что они оказались в полку, набранном главным образом в Северной Ирландии и Западной Шотландии, среди товарищей, которые готовы ссориться с ними, так как видят в них англичан и членов англиканской церкви.
— Совершенно правильно, пастор, — ответил Мел-вил,— жаль, что никто из членов вашего синода вас не слышит. Но разрешите продолжить. Итак, этот молодой человек получает отпуск и едет в Тулли-Веолан. Убеждения барона Брэдуордина достаточно хорошо известны, не говоря уже о том, что дядя этого юнца вызволил барона из беды в пятнадцатом году. Гостя у барона, он оказывается замешанным в какой-то ссоре, которая, как говорят, бросает тень на его офицерскую честь. Подполковник Гардинер пишет ему сначала мягко, затем более решительно — я думаю, что вы в этом сомневаться не станете, раз это его собственные слова; потом общество офицеров предлагает ему объяснить эту скандальную историю; он не отвечает ни командиру, ни товарищам. Тем временем его солдаты начинают шуметь и перестают подчиняться начальству, а когда распространяются слухи об этом злополучном мятеже, его любимый сержант Хотон и еще один солдат оказываются изобличенными в переписке с французским агентом, подосланным, по словам Хотона, капитаном Уэверли с целью подговорить его — так по крайней мере говорят эти солдаты — дезертировать и присоединиться к своему капитану, который находится в ставке принца Карла. Тем временем этот достойный всякого доверия капитан живет, по собственному признанию, в Гленнакуойхе, у самого деятельного, хитрого и отчаянного якобита в Шотландии; он отправляется с ним на пресловутое сборище кланов — и, боюсь, несколько дальше. Ему шлют еще два вызова. В одном ему сообщают о брожении в его отряде, в другом — категорически приказывают вернуться в полк, что, впрочем, всякий здравомыслящий человек сделал бы по собственному почину, как только заметил, что мятежные настроения вокруг него усиливаются. А он наотрез отказывается ехать и подает в отставку.