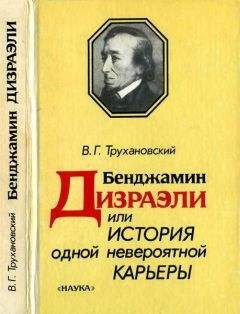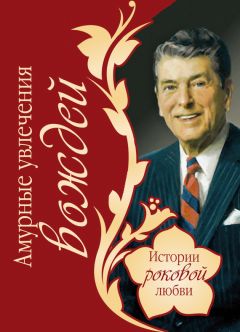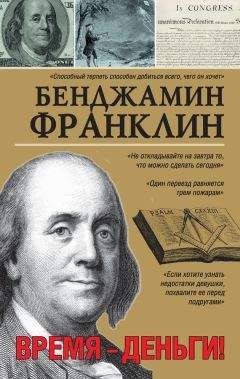Марк Алданов - Живи как хочешь
С наслаждением слушал и Дюммлер, несколько волновавшийся перед своим выступлением. «Этот Гранд жулик. Гений и злодейство совместимы, хотя Микель-Анджело никого не убивал и Сальери Моцарта не отравлял: наследники могли бы привлечь Пушкина к суду за клевету. Эстетически совместимы злодейство и талант: Иван Грозный, Екатерина Медичи были прекрасные писатели. Но может ли быть талантом не злодей, а мелкий жулик? Сейчас мне говорить», – рассеянно думал Николай Юрьевич.
XI
У него был приготовлен довольно подробный конспект речи. В последние годы он опасался, что связь мыслей может порваться. Так некоторые виртуозы боятся играть без нот: вдруг забудут что дальше. Но Дюммлер был почти уверен, что прочтет по записке только длинные цитаты, которые у него были отчеркнуты красным карандашом. Когда Гранд перестал играть, Николай Юрьевич выждал минуту – аплодировать в «Афине» не полагалось – и заговорил.
Его французская речь была совершенно естественна (что бывает редко у людей, выражающихся не на родном языке). Говорил он с эстрады хуже, чем в гостиной, и годы на нем сказывались, но в его уверенной манере еще чувствовался большой опыт. Яценко не раз замечал, что иные, даже даровитые ораторы, не уважающие своей публики и не готовящиеся к речам, иногда начинают нести вздор. За Дюммлера, как сначала показалось Виктору Николаевичу, можно было быть спокойным: не напутает, не собьется, не скажет ничего неуместного, не затянет чрезмерно своей речи, не даст слушателям соскучиться. Однако, оттого ли, что он был немного раздражен на старика за бутафорию «Афины», Виктор Николаевич стал внимательно слушать не сразу, лишь через несколько минут. Дюммлер говорил о пути к счастью, о пути к освобождению, и как будто выходило так, что у него это означает одно и то же.
– …Таким образом мы стоим перед двумя проблемами, которые в конечном счете сливаются. О первой я кратко сказал: возможно ли в наше время картезианское состояние ума? Подчеркиваю эти слова, – Дюммлер повторил: «l'état d'esprit cartésien», – они не совпадают со словом «мировоззрение», – conception du monde. Вторая проблема, это проблема человеческого счастья. Ими, повторяю, мы и предполагаем заниматься в «Афине», не навязывая ничего друг другу, считая обязательными лишь самые основные общие положения и правила.
«Зачем же тогда глупая бутафория? – подумал Яценко.
– …Как вам известно, вопрос о счастьи с необыкновенной силой и тонкостью поставил самый удивительный из всех когда-либо существовавших народов. Превосходство древних греков над другими народами так очевидно, что они о нем и говорили редко, хотя какой-либо эллинский авантюрист мог бы говорить о своей Herrenrasse с неизмеримо большим правом, чем германский психопат, дела которого мы, к величайшому нашему позору, терпели двенадцать лет. Однако твердого решения этой проблемы эллинская философия не дала. Обычно говорят, что она эвдемонистична. Но так ли уже определенно и самое это слово? В буквальном переводе оно лишь указывает на состояние, близкое к некоему доброму демону или, скажем с натяжкой, на состояние под покровительством некоего доброго демона. Понятие и в таком смысле ценно, интересно и неопределенно: добрые демоны могут быть различные. В философской литературе есть десятки определений и самого счастья, и его роли в обосновании нравственности. «Путь к счастью"… „The pursuit of happiness“, чтобы употребить слово, увековеченное в Соединенных Штатах. Скажем с вечным умницей Вольтером:
«Ce monde, ce théatre et d'orgueil et d'erreur
Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur?»[38]
Дюммлер на мгновенье остановился, чтобы дать слушателям возможность оценить Вольтеровы стихи. Он следил за аудиторией, хотя и без большого интереса. Некоторые из слушателей улыбнулись, другие слушали хмуро и как будто недоверчиво.
– Не будем, однако, уходить в глубь веков. Будем помнить, что с 1945 года все прошлое стало tabula rasa. Было бы крайне странно, если бы мы могли теперь держаться тех основных философских положений, которые сохраняли силу всего только десять или даже пять лет тому назад, до разложения атома. Ведь мы, господа, еще живем только потому, что американская группа физиков Оппенгеймера работала быстрее и лучше, имела больше средств, лабораторий и заводов, чем немецкая группа Гейзенберга. Другой причины собственно не было. Теперь вопрос, овладеют ли всем миром коммунисты, зависит отчасти от того, будет ли успешнее работать та же американская группа или русская группа физиков. Новая философия, как и новая история, началась в 1945 году. Я не физик, но, насколько я могу судить, все это вышло из идей Эйнштейна о соотношении между материей и энергией. Никто, значит, главного не понимал, кроме этого человека, который считает или еще недавно считал Сталина великим гуманистом. Понимают ли сами физики, что они взорвали вместе с атомом? Они взорвали наши аксиомы, всё наше мышление, наши религиозные чувства, наш общественный строй, быть может, даже свою собственную веру в науку. Добавлю, что подарили они человеку эту штучку именно в то время, когда во всей красе выяснилось, как глуп и слаб человек, когда, единственно по причине его глупости и слабости, столь многое и без физиков трещит в мире. Вот первое в истории открытие, которое, родившись на свет Божий, немедленно, в несколько минут отправило в лучший мир сто тысяч человек. У других открытий хоть таких крестин не было. Конечно, эта штука «может сделать войну невозможной». Но такие же надежды Нобель возлагал на динамит, и даже когда-то Вобан на свои военные изобретения. С тех пор, как существует мир, не было в физике, в химии такого открытия, какое было бы использовано только на добро. И если на разрушение будет истрачена одна сотая доля атомной энергии, а девяносто девять пойдет на чудеса культуры, то мир со всеми этими чудесами все равно погибнет от этой сотой доли. Новую эру в истории открыли не две мировые войны, не коммунистические или другие революции, не гитлеровщина и не фашизм. Ее открыло разложение атома. И надо ли пояснять, что три перечисленные мною проблемы, как и столь многие другие, теперь ставятся совершенно не так, как до взрыва в Новой Мексике… Извините меня, я отвлекся в сторону, хотя и очень немного.
– В человеке всегда была сильна потребность рассматривать счастье, как нечто единое и однородное. Но даже у эвдемонистов, даже у гедонистов, была попытка все же прикрепить счастье к какому-либо другому понятию, будь это добродетель, или нравственный закон, или выполненье Божьей воли. В этом отношении не составлял исключения сам Гёте, которого так часто называли то «великим язычником», то «олимпийцем» – пока вдруг не стало модным делать из него неврастеника из романов двадцатого века. Гёте говорит: «Wir wollen einander nicht aufs ewige Leben vertrosten! Hier müssen wir glücklich sein!».[39] (Дюммлер прочел эту цитату по записке и тотчас перевел ее на французский язык. Слушатели сочувственно закивали). Эти слова понятны, и мы могли бы их включить в число заповедей «Афины». Да, мы должны быть счастливы не там, а еще здесь! Однако у Гёте происходит скачок… Впрочем, нет, не скачок, а медленное передвижение: счастье связывается с das Gute, с das Rechte. Я всей душой был бы рад, если б это было так. Но так ли это? Жизнь это опровергает на каждом шагу. Да и деление большой философской школы на эвдемонистов и гедонистов, различие между киренаиками и эпикурейцами уже предполагает различие в ценности между разными видами счастья.
Дюммлер отпил воды, обвел взглядом слушателей и продолжал:
– С нами случилось несчастье, повергшее нас в полную растерянность: мы лишились аксиом! Да. Трагедия современного человечества в том, что у него аксиом больше нет. Признаем прямо, что нет для людей единого пути к счастью, единого пути к освобождению. Надо выработать систему обоснованной классификации. Я буду не раз говорить об этом в «Афине». Сейчас скажу лишь очень кратко, в надежде, что хоть некоторые из вас поймут меня с полуслова. В своем эклектическом эвдемонизме «Афина» ставит себе и эту задачу.
– У Канта есть учение о счастьи, к сожалению гораздо менее известное, чем другие его доктрины. Кант видит в счастье материю всех земных целей, «die Materie aller Zwecke auf Erden». В зависимости от того, какие человеческие потребности удовлетворяет счастье, и от того, как оно их удовлетворяет, у Канта можно найти и классификацию: счастье «экстенсивное», – ударение делается на числе потребностей; «интенсивное», – ударение на степени удовлетворения; и «протенсивное», – ударение на продолжительности счастья. Быть может, я несколько упрощаю это кантовское деление, когда-то меня поразившее. Теперь оно меня больше не удовлетворяет, вероятно оттого, что в мои годы уж очень трудно было бы говорить о протенсивном счастьи. (Послышался легкий смех). Логически я не мог и не могу понять одного: на чем же с уверенностью строится иерархическая классификация? Человек может находить счастье, а следовательно и освобожденье, в чем угодно, – сказал Дюммлер, замедлив речь, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово. – И у нас пока нет оснований признавать одни виды счастья более ценными, другие менее ценными. Мы должны либо отказаться от «материи всех земных целей», либо признать равноправие всех ее видов, либо вместе искать новых критериев, новых исходных точек для расценки новых путей. Именно эту цель ставит себе общество «Афины», председателем которого вы меня избрали. Оно ставит себе целью, никому ничего не навязывая, помочь каждому человеку найти свое счастье, свое освобождение. Древний мудрец сказал: «Ты ищешь счастья? Живи как хочешь"…