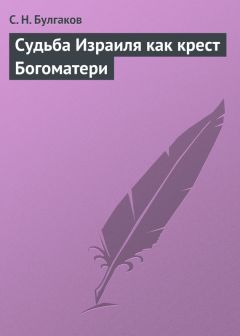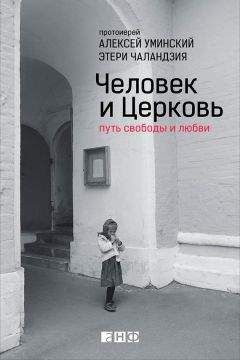Иван Супек - Еретик
– Ты преследуешь только свои корыстные интересы, охотник за приданым… – бесновался Иван.
– Ну и что из того? Когда каждый станет преследовать свои реальные, земные интересы, тогда-то и наступи конец церковной мистике и папству. Очень давно мы давали обет бедности и послушания, а теперь вышло, что мы утратили свою свободу, перестали быть людьми, и бесстыдная каста автократов подчинила нас. Надо, чтобы каждый человек свободно распоряжался тем имуществом и собственностью, которые он приобрел благодаря своему труду и своей предприимчивости.
Тщетно пытался Иван понять своего лучшего друга, точно изъеденного туманом лондонских доков и пристаней, откуда уходили в плаванье корабли его будущего тестя. Товары и деньги, не укладывалось в голове Ивана, погоня sa прибылью… А христианство? Неужели купеческое хозяйство вовсе разрушит христианскую этику? А что, если купеческий зятек в щегольском камзоле, с часами на массивной золотой цепочке возвещает о наступлении эпохи скепсиса, олицетворяя предтечу мира дельцов, где нет места апостольской добродетели? Слепо верующий фанатик любой ценой пытался уберечь легкомысленного франта от коммерческих экспедиций в дальние страны.
– Погоди, дьявольское отродье! Ведь именно собственность воздвигла преграду между людьми, создала неравенство…
– Ну и что? Зато утрата собственности приносит нечто худшее…
– Церковную иерархию? Мы и ее уничтожим со всеми ее предрассудками. Наше прибежище – община!.
– Эх… – презрительно отмахнулся Матей. Тезисы и антитезисы «Церковного государства» вовсе перестали его волновать. А между тем позабытый ими учитель зашевелился в кожаном кресле. Он давно заметил, как сторонится его любимец, снедаемый потаенными сомнениями, однако сегодняшнее открытое и весьма дерзкое выступление именно в таких обстоятельствах, когда верность учеников понадобилась ему больше, чем когда бы то ни было, глубоко задело его. Так в тяжких испытаниях разваливалось с трудом поддерживаемое единомыслие. Если ближайшие ученики покидают его, кто же откликнется на его призыв… Понимая, что все вокруг рушится, он попытался вновь привлечь к себе ловкого купчика:
– Видишь ли, Матей, общины, как мы их себе представляем, устранили бы ненасытную иерархию, погасили бы вековые конфликты между правителями, религиозные распри…
Он умолк, заметив ироническую гримасу на лице ученика. И ему вдруг захотелось ударить по этому красивому, нежному лицу, на котором бурная жизнь уже оставила свой след, но он сумел обуздать себя. Какой чистой верой светилось раньше это тонкое лицо! Мучительно видеть, как любовь угасает в самых близких душах, вытесненная непреодолимым разочарованием. Полный неизбывной тоски старый учитель робко и неуверенно защищал сейчас свою некогда ослепительную теорию, однако нетерпеливому слушателю не было дела до его объяснений.
– Ох, эти ранние христианские общины… Нет возврата к старому. И здесь и на континенте возникают могучие монархии, которые лишат всяких прав прежде свободные города и общины. А затем, независимо от того, нравится вам это или нет, усилится влияние деловых людей и постепенно станут исчезать все ваши короли, папы и антипапы, вот что, высокопреосвященный!
Искренность и горячность Матея обезоруживали Доминиса, убежденность молодого человека в своей правоте была рождена в деловых кварталах, где любой кузнец или торговец умел ныне защитить свое, равное королевскому, достоинство. Новое поколение отбросило за ненадобностью подобострастие, лесть и фанатизм вместе с воинствующей догмой католицизма. Его бывший любимец обращался к нему как равный к равному, не скрывая даже некоторого своего превосходства в желании это равенство установить навсегда. Неужели наступила новая эпоха, от которой он, поборник эмансипации светской власти, отстал? Однако другой ученик пытался противостоять разрушению прежних авторитетов и вместо него, своего наставника, пошатнувшегося и лишенного надежды, призывал отступника к верности:
– Ты первым покинешь нас?
Матея сразил горький упрек товарища. Самоуверенность, только что говорившая в нем, мгновенно исчезла. Ведь на самом деле он скорее стремился удержать, спасти от гибели их обоих, нежели доказать собственную правоту. Разрыв с учителем и его самого лишал прочной опоры в жизни; растерянно смотрел он сейчас на стрельчатые готические окна, за которыми угасала вечерняя заря, напоминая своим багрянцем о муках Спасителя на Голгофе. Просторный кабинет с деревянным распятием и портретами Тюдоров на стенах разительно контрастировал с тремя сокрушенными фигурами его случайных хозяев. Да, иззябшийся, истосковавшийся по животворному теплу юга учитель не мог остаться здоровым в этом климате. И воспоминание о голубом небе родины помимо воли ожило в душе будущего лондонского купца, хотя он и пытался подавить его с помощью напускной деловитости. Где гарантии что они останутся в живых! Указав на открытый табернаклъ из темного дуба, Марк Антоний сказал:
– Вот письмо Гвидо ди Баньо из Брюсселя. Прочтите! Очень теплое письмо… Архиепископ Патрашский и папский нунций примут меня с распростертыми объятиями…
– Этот римский посол, – хмуро добавил Иван, – упоминает о милости, что, видать, само по себе предусматривает церемонию формального покаяния.
– Значит, – другой ученик оставался последовательным, – придется встать на колени и пройти через обряд очищения и возврата в лоно римской церкви? Да?
Это было самое мучительное: стоять на коленях под взглядами своих почитателей. И у обоих его последователей ужас отразился на лицах, точно они уже видели его униженным. В мире, разделенном на враждующие лагери, приходилось платить пошлину всякой обладающей вооруженной силой власти, и вот он, архиепископ Сплитский, с пылающими от волнения щеками выплачивал ее последними золотыми своего величия.
– Отказ от очищения, – сурово судил его безжалостный Иван, – был бы равен клятвопреступлению.
– Нет, – возразил Доминис, – я никогда не торговал достоинством иерарха римско-католической церкви и не принимал сторону протестантов.
– О да, высокопреосвященный, – пробираясь между двумя воюющими сторонами, Иван упрямо стоял на своем, – мы преследовали нашу цель.
– Вы оба не понимаете, что решающую битву можно выиграть только внутри католической церкви. Именно там, где вы упрекаете меня в двуличии, я наиболее последователен…
И оскорбленный до глубины души, он мысленно продолжал этот разговор: другой спокойно бы наслаждался жизнью, пользуясь немалыми доходами виндзорского декана, но от него безжалостная логика провозглашенных им самим тезисов требовала отказаться от благоденствия и кануть в неизвестность. Уже в самом начале своего сочинения, долго находившегося под спудом, он обращался с этим прежде всего к католическим епископам, не только из тактической хитрости, но и по глубочайшему внутреннему убеждению.
– Цели, – ворчал новоиспеченный джентльмен, досадуя на своего мессианствующего товарища, – всегда какие-то цели! – Эти аскеты, неспособные нигде ужиться, непрерывно гоняются за всевозможными призраками. Вместо того чтобы пытаться создать неведомый мир по неведомому образцу, следует удовлетвориться чем-то пусть меньшим, но более существенным… – Вот вам примеры: парламент усиливается вопреки королевскому самовластию, университеты приобрели право участвовать в его работе, коммерция освобождается от гнета монополий. Разве это все нереально?
Библейские сюжеты угасали на пестрых стеклах тяжелого свинцового оттенка. Лишь какая-нибудь пурпурная линия, отдельное яркое пятно или два скрестившихся световых луча еще сопротивлялись тьме, хотя общая композиция растворилась во мраке. Впрочем, и эти поглощенные ночью окна никуда больше не раскрывались. Вполне вероятно, что за высокими стеклами вовсе и не было никакого пейзажа. Примас вздрогнул при этой безнадежной мысли, словно его руки коснулось нечто холодное и липкое. Кто знает, не обнаружил ли выход его самый лучший ученик, удовлетворяясь чем-то на первый взгляд меньшим, а по сути неизмеримо более огромным? Какие цели? Какие миры? Надо жить…
Он дрожал, закутанный в шерстяной плед, держа в окоченевших пальцах развернутый свиток. Из Венеции писали, что Риму не следует доверять: Домииису ни в коем случае нельзя возвращаться! Слухи о его возможном возвращении встревожили тамошних друзей; одни опасаются за его жизнь, другие боятся новых осложнений для себя, как, должно быть, и этот холоднокровный преемник Сарпи, предостерегающий его о коварстве иезуитов и лживости посулов курии – точно он сам хотя бы на секунду мог об этом позабыть! Напоминают о судьбе его книг и его друзей – точно он сам этого не знает! Неистовый папа Павел V немедленно предал анафеме отступника, требуя изъятия отовсюду его сочинений, Священная канцелярия мгновенно начала против него дознание in contumaciam,[69] верные ученики Беллармина из Сорбонны обнаружили в книге «О церковном государстве» сорок семь еретических положений, конклав кардиналов осудил его, имя Марка Антония де Доминиса первым стоит в Индексе, а папский легат в Венеции оказывает постоянное давление на Сенат; и в довершение ко всему инквизиция возбудила следствие против его приверженцев в Сплите. Впрочем, и этот достопочтенный собрат из Республики святого Марка, и эти протестантские иерархи и пастыри ничуть не менее вероломны и непримиримы. Едва гость заикнулся об отъезде, как они готовы выпихнуть его. Самодовольные пресвитериане, пуритане, кальвинисты, лютеране после шести лет славословий с изумлением обнаружили, что по существу он не принадлежал к ним, а кто не принадлежит к их лагерю, наверняка состоит на службе у папы: третьего не дано! Для обеих воюющих сторон он и ему подобные были бесчестными чужаками, да и вообще-то сейчас всем стали чужды гуманистические тонкости, поэтому со своим призывом к универсальности Доминис и попал под перекрестный огонь. Разъяренные англиканцы толкают поборника мира к папистам, которые, опираясь на доносы брата Фульгенция[70] и венецианского посланника в Лондоне, почти наверняка бросят его в темницу. Надо изменить самому себе и окончательно утратить разум, чтобы встать под чье-либо знамя в этой священной войне, но как иначе уцелеть? Крестоносцы с сарацинами сражались более или менее по-рыцарски, однако к изменнику не могло быть никакого снисхождения. Для католика протестант был олицетворением дьявола-искусителя, а лютеране считали папство измышлением сатаны. Рожденные общим движением, объединенные стремлением к абсолютной власти над душами своих прихожан, истинная вора и ересь слились в смертельном объятии, ослепленные ненавистью, охваченные яростью взаимного уничтожения. Нашествия татаро-монголов, гуннов, турок не смогли примирить фанатичных соперников. Аттила, Чингисхан или Сулейман всегда оставались для них далекой, преходящей, геополитической опасностью; а еретик – о, в этом таилось нечто личное, роковое, существующее вечно, его следовало сперва осторожно обнаружить, вывести па чистую воду, а затем терзать, подныривая на святом огне. Уничтожение еретиков служило самым убедительным доказательством истинности своей веры. И подозреваемый в ереси примас Хорватский дрожал всем телом при виде мрачного жерла камина, где еще трепетали черные розы сожженных страниц. Напрасно он уничтожает свои призывы к повсеместному миру, предназначавшиеся для отправки на континент. Для них недостаточно, чтобы он умолк; в окружении бесчинствующих фанатиков надобно оглушительно и дико вопить, подобно им самим. От всех его философских озарений останутся лишь вот такие обратившиеся в пепел, хрупкие розы.