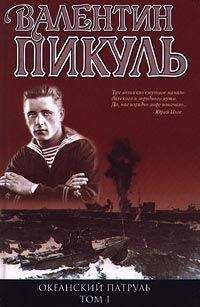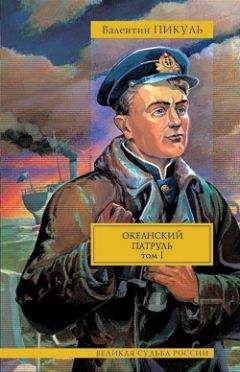Валентин Пикуль - Океанский патруль. Книга 2
— Вот там, за решеткой, бегают из будки в будку напуганные лисенята. Да тут, кажется, есть черно-бурые? Дави их, Фриц!..
«Зона пустыни» — это не шутка; «зона пустыни» — это мертвое пространство; «зона пустыни» — это спи под звездами; «зона пустыни» — это подыхай с голоду; «зона пустыни» — это просто пустыня, это смерть!..
И на многие сотни верст, от лесов Карелии до нейтральной Швеции, пролегает выжженная, вытоптанная, вымощенная трупами полоса пустыни, — ничего живого, все прах, пепел…
Рушатся заповедные леса, выбегает из них зверь; заполняются водой штреки мраморных каменоломен, потом ударит мороз, и ледяные пробки заглушат все; взрываются созданные трудом поколений дамбы, и озера, выходя из берегов, заливают небогатые пашни, отвоеванные у дикой природы; огонь, динамит, пуля, веревка — так и знайте, финны!..
— Стой! — кричат шоферу.
Машина резко тормозит. На перекрестке двух дорог возвышается обелиск, высеченный из серого гранита. Босой Вяйнемайнен в широкой рубахе играет на каменных кантеле. Когда, в каком веке жил этот мастер, что грубым резцом вырубил мужественные черты финского героя? Время и ветер сделали свое: истерлись тонкие струны, едва-едва обозначены узор и ремешок на рубахе.
Тиролец спрыгивает с машины, достает гранату.
За ним — егерь.
— Не смей! — кричит он. — Это Вяйнемайнен, он жил давно.
— Какой еще Вяйнемайнен?
— Это страна Калева… это лодка из осколков веретена…
— Пошел ты в задницу со своим Калева. Ты дурак или контужен в голову?
— Не смей взрывать, — кричит егерь, — что ты, идиот, понимаешь в этом!.. А это древность, это страна чудес Похйола, это сам Лемминакайнен, соблазнитель женщин, это…
— К черту чудеса!..
Все пригибают головы, и граната, кувыркаясь, летит в курносое лицо сказочного героя Суоми.
На третий день, когда «зона пустыни» широкой горящей просекой рассекла Лапландию с запада на восток, фон Герделер вышел из «опеля», размял затекшие ноги. Он задыхался от дыма, отхаркивался серой слюной, не мог уже думать о табаке. Потемневшие небеса отражали пламя далеких пожаров, и от этого казалось, что вся Суоми охвачена громадным заревом.
— Куда, куда прешь? — крикнул он шоферу одного грузовика. — Там уже Швеция!..
Машина остановилась, солдаты терли снегом закопченные лица, снимали каски — работа закончилась.
— Где бы воды? — сказал фон Герделер.
Он расстегнул шинель, пошел в сумерки наплывающего вечера. Где-то невдалеке журчала река, и он скоро увидел ее. Эта река была пограничной, возле моста белела будка часового.
На другом — уже шведском — берегу, который заволакивало дымом горевшей Лапландии, стояли шведы. Стояли молча, не двигаясь, смотрели в сторону соседней страны. Здоровые рослые крестьянки в раздутых пестрых юбках, за которые держались здоровые дети. Деревня, видневшаяся за косогором, тоже казалась какой-то здоровой, ее дома — прочными, добротными…
Вспоминая службу на рудниках Елливаре, фон Герделер слегка поклонился в сторону дружественной страны, и сказал по-шведски:
— Добрый вечер! Я бы хотел купить у вас молока… Никто не шевельнулся. Дети прятали свои лица.
— Я заплачу, — продолжал оберст, — хотя бы кружку… Он ступил на мост, но пограничник вдруг крикнул:
— Назад. Застрелю!..
Криво усмехнувшись, фон Герделер спустился к реке, долго выбирая камень посуше.
Он пил жадными глотками, и за его спиной полыхало зарево, а на другом берегу молча стояли люди.
Первый десант
Лейтенант Ярцев, как всегда, спокоен и гладко выбрит. Голос этого человека ровен и красив той особой звучностью, какой обладают голоса русских певцов. Но никто не знает — поет он или нет. Ярцев человек замкнутый. Скупой не только на песню, но и на слова. Говорят, что когда лейтенант стал известен в штабах Лапландской армии как лучший разведчик Северного флота, его жену, оставшуюся в Новгороде, немцы замучили в концлагере. Вот с тех пор и поскупел Ярцев на слова.
— Итак, — говорит он, взглянув на морских пехотинцев, — сдайте все документы, ордена, фотокарточки и письма.
И пока бойцы выкладывали перед ним содержимое карманов, Ярцев, то хмурясь, то слегка улыбаясь, читал какое-то письмо. Это письмо он получил только что и удивился — писала Аглая Сергеевна; писала второпях, просила извинить ее за то, что впервые после той встречи на мотоботе решила воспользоваться его адресом. Сейчас она снова уезжает на фронт, ее дочка растет, и… «Что ж, — подумал Ярцев, дойдя до самого главного в письме, — я догадывался, что Никонов, и никто другой, партизанит сейчас в Финмаркене!..»
Он разрывает письмо на мелкие клочки, говорит:
— Ну, все сдали?.. А ты чего прячешь там? Русланов смущенно переминается с ноги на ногу:
— Да это, товарищ лейтенант, карточка… маленькая…
Ярцев спокойно отбирает у него фотографию какой-то курносой девушки, кладет ее в общую груду бумаг.
— Во-первых, — говорит он, — это есть неисполнение приказа, а во-вторых… любовь надо хранить не в кармане, а вот здесь!..
Где — здесь, он не показывает, но все и так догадываются, что любовь надо хранить в сердце.
Сложив документы в пачку и перевязав бечевкой, лейтенант кладет их в ящик стола, закрывает на ключ:
— Вернемся — получим, не вернемся — получат родные…
О смерти он всегда говорит просто, как о чем-то обычном, — слишком часто встречался Ярцев с нею, чтобы говорить иначе.
Посмотрев на часы, произносит только одно слово:
— Пора!..
Долго шли в темноте, подкидывая на спинах тяжелые рюкзаки, набитые не столько продовольствием, сколько дисками и гранатами; стволами автоматов раздвигали перед собой колючие кустарники. Никто — ни друг, ни враг — не видел их в эту ночь: лейтенант Ярцев, шагавший впереди отряда, вел их какой-то неприметной тропинкой, которая блуждала по откосам сопок, извивалась в зарослях можжевельника, пролегала через болота.
— Где будем грузиться? — спросил Русланов.
Ставриди с горячной поспешностью южанина израсходовал свои силы вначале и теперь, устав, ответил с придыханием:
— Говорят, в Матти-воуно.
— А высаживаться? — спросил Найденов, шагавший сбоку.
— Это знает только он один…
— Кто?
— Наш лейтенант.
— Наш, — повторил кто-то во тьме, и скоро послышался неумолчный шум полярного океана…
Освещаемый сполохами, он был неспокоен и величав в эту ночь.
— Не отставать! — скомандовал Ярцев, сбегая по крутизне сопки в котловину тихой неприметной бухты, где раскачивались на воде готовые к отплытию «морские охотники».
Однако три катера сразу отошли от берега, а погрузка началась только на один МО-216. Вахтанг Беридзе уже расхаживал по мостику, похлопывал большими рукавицами:
— Вах, вах, вах!
Изредка перегибался через поручни, покрикивал с высоты:
— Быстрее!.. Не на камбуз за кашей идете!..
Десантники один за другим быстро пробегали по узкой сходне, и боцман Чугунов каждого дружески хлопал по плечу, пересчитывая:
— …девятнадцать, двадцать, двадцать один… А ну, шевелись, братки, что вы словно медузы!.. Двадцать три…
Морские пехотинцы сразу спускались в теплые кубрики, скидывали рюкзаки, катерники угощали их крепко заваренным кофе:
— Пей, не жалко… Подумаешь — кофе!..
В кубриках уже было не протолкнуться, стоял гам голосов, раскачивались подвешенные к койкам автоматы; только и слышалось отовсюду:
— Подвинься!.. А ты на палубу!.. Куда мой рюкзак пихаешь?.. На ногу наступил… Эх, черт, кружку оставил!..
Матросы сидели на одном рундуке, и каждый немного грустил при виде знакомой корабельной обстановки. Комендор с «охотника», наливая им кофе, говорил:
— А вы, я вижу, с флота?
— Мы все тут с кораблей, — отозвался Ставриди, растирая онемевшие от рюкзака плечи. — С «Аскольда» мы, слышали такой?
— Теснота, — вздохнул Алеша, — куда ушли те три «охотника»? Вот бы на них…
— Нельзя, — ответил комендор. — Высаживать мы вас будем, а те три демонстрацию перед немцами устроят: как бы тоже десант хотят высадить. И пока они там из пушек договариваются, мы вас тишком и скинем где-нибудь…
Кружка, стоявшая на рундуке, неожиданно поползла по гладкому линолеуму, кофе в ней покрылся мелкой рябью.
— Кажется, пошли, — матрос стал плотно задраивать иллюминаторы.
— Пошли, — весело сказал на мостике Вахтанг. — Я тебя, лейтенант, уже не раз на своем «сорокатрубном» по морям перекатываю. В сорок первом еще в Норвегию ходили, помнишь?..
Ярцев осмотрел темный горизонт, покрытый стелющимися по ветру полосами пены, коротко заметил:
— Штормит… Сколько?
— Ерунда! Шесть, — отмахнулся Вахтанг и, поднимая меховой капюшон, добавил: — У нас, лейтенант, есть такой закон. Баренцево море любит, когда с ним обращаются только на «вы», но мы, однако, предпочитаем иметь с ним дело только на «ты»… Вах, дьявол!