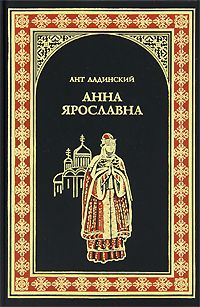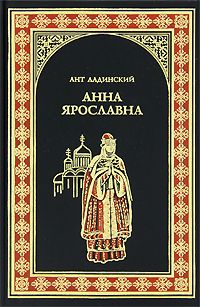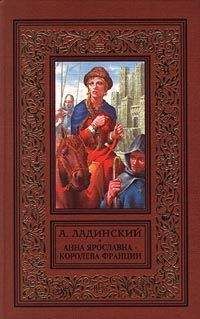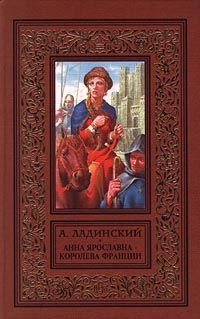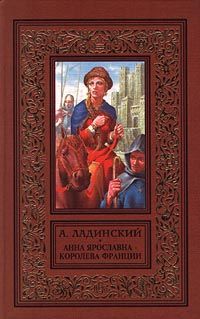Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
Вскочившему Розе кровь бросилась в голову, и ему не оставалось ничего иного, как загладить свою вину еще большей, — он бросился на шею мраморной богине…
Но прежде чем рассказывать дальше, я должен сделать одно замечание. Дело в том, что многие добросердечные красавицы прикрывают свой отказ согласием; чтобы сохранить достаточно сил для своей добродетельной стратегической операции, они не защищают второстепенных объектов и сдают целый ряд владений и укреплений, словесных и туалетных, дабы искусно предвосхитить и предупредить замыслы атакующего: так разумные коменданты сами сжигают свои предместья, чтобы лучше защищаться наверху, в своей крепости.
Это соображение я привел только для того, чтобы указать, что оно совершенно неприложимо к Ленетте. Она, с ее ангельски-чистой душой и телом, могла бы отправиться прямо на небеса, даже не переодевшись, и могла бы захватить с собой туда наверх все — свои очи, свое сердце, свое одеяние, но только не язык, ибо он произносил невоспитанные и необдуманные речи. Воровскому посягательству Эверара на ее уста она дала отпор такого рода, который был слишком серьезен и невежлив при столь мелкой покраже; он был бы менее резким, если бы суровые предостережения против Розы, высказанные советником, не засели так прочно в памяти Ленетты.
Роза рассчитывал на более приятную степень сопротивления. Его упорство нисколько ему не помогло — против большего упорства. Целый комариный рой страстных порывов назойливо жужжал в его душе. Но когда Ленетта сказала — она, несомненно, заимствовала это от советника: «Милостивый государь, ведь гласит же священное писание: не пожелай жены ближнего твоего», — то, сойдя наконец с перепутья между любовью и гневом, он быстро полез к себе в карман и вытащил оттуда букет искусственных цветов. «Ну, так согласитесь вы, противная, бессердечная, взять хоть эти незабудки на память, — чорт побери, мне-то ведь больше ничего ненадобно». Ему в тот же миг понадобилось бы больше, если бы Ленетта взяла цветы, но она, отвратив взоры, обеими руками отстранила букет обратно. Тогда в его душе медовые соты любви скисли в крепчайший медовый уксус. Чертовски взбешенный, он швырнул цветы далеко на стол и сказал: «Это ваши собственные заложенные цветы, — я их выкупил у оценщицы, — уж придется вам оставить их у себя». Теперь он ретировался, но с поклоном, и уязвленная Ленетта ответила тем же.
Она взяла отравленный букет и стала его рассматривать у более светлого окна, — ах, правда, это были те самые розы и бутоны, на железных шипах которых словно засохла кровь двух исколотых сердец. Пока Ленетта, плачущая, изнемогающая, глядела в окно не столько пристальным, сколько оцепеневшим взором, она удивилась, что мучитель ее души, который шумно сбежал вниз по лестнице, все же не вышел из входных дверей дома. После долгого внимательного ожидания, во время которого страх, словно утешение, заглушал горе, а будущее заглушало прошедшее, галопом примчался, насвистывая и заломив шляпу на самый затылок, коронованный парикмахер и на полном ходу лишь мимоходом крикнул наверх: «Госпожа королева!» Ибо ему не терпелось ворваться в свою собственную комнату и провозгласить сразу четырех человек королями и королевами.
Теперь я вынужден взять читателя с собою в тот угол, где засел рентмейстер. Прямо от Ленетты он сошел и снизошел к парикмахерше, одной из тех простых женщин, которым круглый год даже в голову не приходит, — ибо ни одна лошадь столько не работает, сколько они, — что можно бы изменить мужу, и которые это делают лишь в том случае, когда появляется соблазнитель, — причем они его не приманивают и не избегают, а всю историю, пожалуй, помнят лишь до ближайшей выпечки хлеба. Вообще то превосходство, которым, по мнению большинства почтенных горожанок, обладает их верность по сравнению с верностью более высокопоставленных дам, столь же велико, как и сомнительно, ибо в средних сословиях имеются лишь немногие соблазнители — и к тому же лишь грубые. Роза был, подобно дождевому червю, имеющему на протяжении своего тельца целый десяток сердец,[93] начинен и нашпигован столькими сердцами, сколько существует разновидностей женщин; для изящных, грубых, добродетельных, беспутных — для всех он имел про запас особое сердце. Ибо, подобно Лессингу и другим, которые столь часто порицают односторонний вкус и проповедуют критикам вкус универсальный, восприимчивый к красотам искусства всех эпох и народов, светские люди столь же усердно доказывают необходимость универсального вкуса к живой, двуногой красоте, не исключающего никакую манеру и умеющего наслаждаться всякой. Таковым обладал и рентмейстер. В его душе существовало такое различие между его чувствами к парикмахерше и к Ленетте, что из мести к последней он на лестнице решил пренебречь этим различием и прокрасться к домохозяйке, муж которой тем временем трудился вне дома и вступал в конфедерации, домогаясь совершенно иного коронования. София (так ее звали) всегда расчесывала парики у переплетчика, когда там сидел рентмейстер, отдававший в переплет романы своей жизни; там он и она взглядами сказали друг другу все, что не терпит чужого взгляда. Теперь Мейерн вошел в комнату бездетной семьи с отважным видом поэта, начинающего творить эпопею. В комнате имелась дощатая перегородка, за которой почти ничего не было — ни окна, ни стула, а лишь немного тепла из комнаты, стенной шкаф и супружеская постель.
Сразу же после первых комплиментов Роза стал в дверях перегородки, так как не хотел в столь позднее время внушить непристойные подозрения каждому мимоидущему постороннему зрителю, ибо окно находилось на уровне улицы. Как вдруг София увидела, что мимо окна бежит ее супруг. Грешные намерения выдают себя избытком осторожности; Роза и София так сильно всполошились при появлении бегуна, что последняя посоветовала дворянину укрыться за перегородкой, пока ее муж не отправится обратно на стрельбище. Рентмейстер, спотыкаясь, залез в святая-святых, а София встала во вратах чулана и, когда ее муж отворил дверь и вошел, сделала вид, будто выходит из них, и прикрыла их за собой. Едва он выпалил весть о возведении в высшее звание, как умчался с воплем: «Та, наверху, ничего еще не знает». Радость и поспешная выпивка затуманили и спутали даже самые светлые его мысли; он выбежал на лестницу и закричал снизу наверх, так как хотел поскорее вернуться и примкнуть к шествию стрелков: «Мадам Зибенкэзша!» Та быстро спустилась до середины лестницы, с трепетом выслушала отрадное известие — и, для того ли, чтобы скрыть свою радость, или же вследствие усилившейся любви к более удачливому супругу, или же под влиянием тревоги, этой неразлучной спутницы счастья, — бросила сверху вопрос, находится ли еще внизу г-н фон Мейерн. «Разве он был здесь у меня?» — спросил тот, — а его жена, непрошеная, возразила из-за дверей комнаты: «Да разве он был у нас в доме?» — Ленетта недоверчиво ответила: «Да, здесь наверху, — но только он еще не вышел на улицу».
Парикмахеру это внушило подозрения, — ибо чахоточные не верят женам и, словно дети, принимают каждого трубочиста за чорта с рогами, — а потому он сказал: «Тут что-то неладно, Софель». Скоротечная мозговая водянка от сегодняшней выпивки и половинная доля в троне и в пятидесяти флоринах настолько придали ему храбрости, что он мысленно решил отдубасить рентмейстера, если поймает его законопротивно спрятанным в каком-нибудь углу. А потому он пустился путешествовать в поисках открытий — прежде всего в сенях, и след и запах дичи ему заменяла благовонная голова Розы; за облачным столпом фимиама он проследовал в комнату и наконец заметил, что ариаднина нить, аромат, становится все крепче и что здесь, под этими цветами, скрывается змея: так по Плинию, благоухающие леса обычно служат приютом для ехидн.[94] София хотела бы провалиться в самый нижний круг Дантова ада, но в сущности она уже пребывала там. Куафер сообразил, что если рентмейстер действительно находится у него в захлопнутой западне чулана, то медведь не уйдет из ловушки, а потому решил туда не заглядывать до самого конца поисков. Исторически достоверно, что он схватил завивальные щипцы, чтобы этими акушерскими щипцами извлечь младенца из темной утробы чулана. Внутри он повернул клещи горизонтально, однако ни на что не наткнулся ими. Тогда он стал тыкать своим зондом или щупом во многие места, сначала в кровать, затем под кровать, но каждый раз принимал меры предосторожности, а именно — размыкал и смыкал свои кусачки (они не были накалены), на случай, если железные челюсти капкана захватят в потемках какой-нибудь локон. Но тиски сжимали только воздух. Тут парикмахер добрался до стенного и платяного шкафа, дверь которого уже в течение шести лет оставалась приоткрытой, так как в этом безалаберном хозяйстве столько же лет тому назад, был потерян ключ, а потому приходилось остерегаться, чтобы замок не защелкнулся; но сегодня дверь была плотно притянута — это сделал рентмейстер, который, весь в поту, стоял внутри. Парикмахер, надавив на нее, окончательно запер ее на замок и тем самым накрыл перепела сетью.