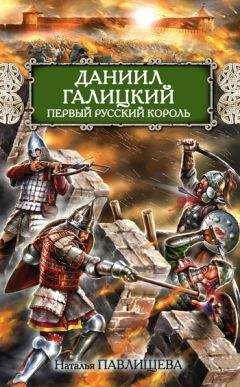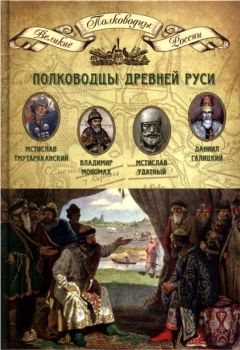Геза Гардони - Звезды Эгера
И все-таки гости ждали, не скажет ли он что-нибудь.
Вдруг в тишину ворвалась веселая песня поварих:
Около колодца весело живется,
С милым я встречаюсь около колодца.
Лошадь напоит он, ко мне обернется,
Прямо в алу щеку поцелуй придется.
И туч как не бывало. Небо прояснилось. Разве можно мужчинам быть мрачными, если женщины песней встречают надвигающуюся грозу!
Мекчеи поднял стоявший перед ним серебряный кубок и встал.
— Уважаемые друзья! — начал он. — Наступают великие дни. Даже сам господь бог сидит сейчас у небесного оконца, смотрит на Эгер и думает: как-то управятся две тысячи человек с двумястами тысячами? И все-таки я не унываю. Среди нас нет ни одного труса. Слышите, женщины и те поют. Но если бы и закралась в чье-либо сердце боязнь, среди нас есть два человека, рядом с которыми даже слепые и увечные не могут пасть духом. Я знаю обоих с ранней юности. Одного из них сам господь сотворил для того, чтобы он служил образцом венгерской доблести. В нем стальная сила, он точно золотая сабля, воплощение твердости и благородства. Второй, с которым я знаком тоже с юности, — образец ума, отваги, присутствия духа и находчивости. Там, где эти люди, — каждый ощущает в себе прилив силы, бодрости, сметливости, мужества и веры в венгерский ум. С ними не страшна никакая опасность. От души желаю, чтобы вы так же близко, как я, узнали нашего капитана Иштвана Добо и старшего лейтенанта Гергея Борнемиссу.
Добо встал, чокнулся со всеми и начал свою речь:
— Родные мои, кровные! Будь я пуглив, как олень, которого приводит в трепет тявканье любой своры псов, я все же не пустился бы наутек, а вступил бы в бой, раз речь идет о судьбе моей родины. Пример Юришича[67] доказывает, что самая жалкая крепость может стать могучей твердыней, если ее обороняют настоящие мужчины. Наша крепость сильнее Кесега, и мы тоже должны быть сильнее ее защитников. Я знаю турецкие войска. У меня еще едва пробивались усы, когда я стоял на Мохачском поле. Я видел дикую рать Сулеймана. Поверьте мне, двадцать восемь тысяч венгров сокрушили бы стотысячный сброд, будь среди венгров хоть один человек, который умел бы вести сражение. Там никто не командовал, никто не руководил боем. Полки развертывались не в соответствии с тем, как стоял неприятель, а как попало. Бедняга Томори[68] — вечная память ему! — был великий герой, но не годился в полководцы. Он думал, что вся полководческая наука заключена в словах: «За мной!» Он читал молитву, потом отпускал крепкое словцо, кричал: «За мной!» — и наша рать вихрем врезалась в гущу турецких войск. Турки разбегались, как стая гусей. А мы, обуянные пылом достойных наших предков, очертя голову мчались на лихих скакунах навстречу пушкам. И, конечно, пушки да цепные ядра делали то, что не под силу было человеку. Из двадцати восьми тысяч нас уцелело четыре тысячи. Из этого страшного бедствия можно было извлечь два великих урока. Первый — что турецкая рать вовсе не войско витязей, а сборище разношерстного отребья. Турки собирают пропасть разного народу и животных, чтобы устрашить глупцов несметной своей ордой. Второй урок: как бы мало ни было венгров, они могут расстроить большую турецкую рать и даже одолеть ее, если щитом им послужит не только отвага, но и разум.
Сидевшие за столом слушали коменданта, напряженно сдвинув брови.
Добо продолжал:
— В нашем положении разум предписывает: держись стойко до прибытия королевских войск. Турки будут палить по крепости, рушить ее, может быть, им удастся даже проломить стены, которые до поры до времени защищают нас. Вот тогда-то и должны мы выступить сами и защищать стены, так же как они защищали нас. Пусть неприятель, карабкаясь на стены, у каждой бреши натолкнется на нас. Мы никогда не позволим выхватить из наших рук судьбу венгров!
— Никогда! Нет, нет, не позволим! — закричали все, вскочив с мест.
— Спасибо, что вы пришли в Эгер, — продолжал Добо. — Спасибо, что вы принесли свои сабли и сердца для защиты отечества. Во мне окрепло чувство, что господь простер свою длань над Эгерской крепостью и говорит орде басурман: «Дальше ни шагу!» Пусть это чувство воодушевляет и вас, и тогда я буду твердо уверен, что мы за этим столом весело отпразднуем торжество победы!
— Да будет так! — закричали офицеры и чокнулись серебряными и оловянными кубками.
Вслед за Добо встал Пете. Движения его, как всегда, были порывисты. Он поднялся, улыбнувшись, заглянул в свой кубок, потом лицо его посуровело.
Оглянулся Пете налево, направо и, подкрутив усы, заговорил:
— Наш капитан Мекчеи верит в Добо и Борнемиссу. Добо и Борнемисса верят в нас и в стены твердыни. Теперь я скажу, во что я верю.
— Слушаем, слушаем!
— Нынче в числе прочих крепостей пали две могучие твердыни: Темешвар и Солнок…
— И Веспрем.
— В Веспреме не было людей. А почему пали эти две могучие крепости? Пройдут годы, и люди, наверно, скажут: пали они потому, что турок был сильнее. А это не так. Они пали потому, что Темешвар защищали испанские наемники, и Солнок тоже защищали наемники — испанцы, чехи и немцы. Теперь позвольте сказать, во что верю я. Я верю в то, что Эгер не будет оборонять ни испанское, ни немецкое, ни чешское войско. Не считая пяти пушкарей, у нас все — венгры, да еще большинство — эгерчане. Это львы, защищающие свое логово. Я верю в венгров!
Лица у всех раскраснелись, все подняли кубки. Пете мог бы уже и закончить свою речь, но он продолжал с жаром народного трибуна:
— А венгр как кремень: чем больше его бьют, тем больше искр высекают. Так неужто же две тысячи молодцов, родившихся от венгерских матерей и отцов, выросших на коне да венгерском зерне, пивших густую бычью кровь[69] из подвалов эгерских святых отцов, — неужто они не справятся с рванью-дрянью, водохлебами, чубастыми прощелыгами?
Слова его заглушили крики, бряцанье сабель и смех, но Гашпар Пете еще разок подкрутил усы, покосившись куда-то в сторону, и закончил так:
— До сих пор Эгер был просто славным городком, городом хевешских и боршодских венгров. Дай бог, чтобы впредь он стал городом венгерской славы! Басурманской кровью напишем мы на стене: «Не тронь венгра!» — чтобы по прошествии веков, когда настанет вечный мир и на руинах крепости будет зеленеть мох, сын будущих столетий, сняв шапку, гордо сказал: «Здесь сражались наши отцы — да будет благословен их прах!»
Поднялся шум, все бросились целовать оратора. И Пете уже не мог продолжать свою речь. Да ему и не хотелось больше говорить. Он сел и протянул руку лейтенанту боршодцев Тамашу Бойки.
— Тамаш, — сказал он, — там, где мы с тобой будем, туркам не поздоровится!
— И хорошо же ты сказал! — кивнул головой Тамаш. — Я хоть сейчас готов ринуться на целую сотню!
После Пете больше никто не был в силах произнести тост. Просили Гергея, но он, как ученый человек, не привык ораторствовать.
Каждый завязал беседу со своим соседом, и зал наполнился веселым гомоном.
Добо тоже оживился, чокался то с одним, то с другим соседом. Он протянул кубок Гергею, а когда священник пересел побеседовать с Пете, поманил Гергея рукою.
— Сын мой, сядь сюда.
И как только Гергей сел рядом с ним, Добо сказал:
— Я хочу потолковать с тобой о сыновьях Терека. Я им тоже написал, да, как видишь, зря.
— Да, — ответил Гергей, поставив свой кубок, — думаю, что нам не дождаться их. Янчи предпочитает биться с турком в чистом поле. А Фери не поедет так далеко, он не покинет Задунайщину.
— Правда, что Балинт Терек умер?
— Да, умер, бедняга, несколько месяцев назад. Только смерть освободила его от оков.
— Намного ли он пережил жену?
— На несколько лет. Жена его умерла, когда мы вернулись из Константинополя. Мы как раз к ее похоронам прибыли в Дебрецен.
— Добрая была женщина, — сказал Добо, задумчиво кивая головой, и потянулся за кубком, будто желая помянуть покойницу.
— Да, таких не часто встретишь, — сказал Гергей, вздохнув, и тоже потянулся за чарой.
Они молча чокнулись. Быть может, оба думали, что добрая женщина видит с небесных высот, как они осушают чару в ее память.
— А Зрини? — спросил Добо. — Я написал и ему, чтобы приезжал в Эгер.
— Он приехал бы, да только уже несколько месяцев ходят слухи, будто боснийский паша готовится выступить в поход против него. В феврале я беседовал с дядей Миклошем в Чакторне. Он уже и тогда знал, что на Темешвар, Солнок и Эгер идет большая турецкая рать. Еще попросил, чтобы я написал для него письмо королю.
— Не пойму, куда девался Лукач. Давно пора ему вернуться. — Лицо Добо омрачилось. — Да и лазутчику Варшани тоже пора прибыть с донесением.
Перед дверями заиграли дудки и трубы:
Мишка-франт свалился в воду.
Панни ждет его у брода.
Казалось, будто всем влили новую кровь. По знаку Добо оруженосец впустил музыкантов: трех дударей и двух трубачей. В числе их был и цыган. На голове его красовался большой ржавый шлем с тремя петушиными перьями. У пояса на тесемочке висела сабля без ножен. К босым ногам были привязаны огромные шпоры. Усердно надувая щеки, трубил он на своем кларнете.