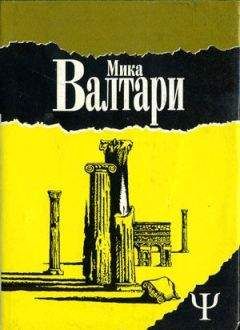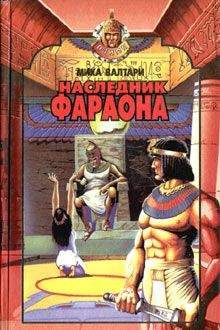Мика Валтари - Турмс бессмертный
Еще год оставался Микон с нами, и сиканы приводили к нему больных — и даже из очень отдаленных мест, — чтобы он лечил их. Но к обязанностям врача он относился теперь спустя рукава и уверял даже, что сиканские жрецы не хуже его умеют лечить раны, сращивать кости и погружать больных в живительный сон с помощью одного только маленького барабана.
— Мне у них нечему учиться, — говорил он, — им у меня тоже, да все это и не имеет никакого значения. Возможно, это и благородно — бороться с телесными недугами, но вот кому по силам излечить страдающий дух, если даже посвященный никогда не чувствует себя довольным и счастливым?
Я не мог вывести его из уныния, и Арсиноя не знала, как его утешить, хотя и улыбалась Микону, начав, подобно мне, радоваться жизни. Однажды утром лекарь проснулся поздно, посмотрел на синеющие горы и сияющее солнце, провел ладонью по лицу, вдохнул теплый, смолистый аромат леса, положил дрожащую руку на мое плечо и сказал:
— Пришло время, и мои мысли прояснились, Турмс. Я врач и понимаю, что болен, что мой организм насквозь пропитался пагубным и дурманящим напитком сиканов. Я давно уже живу будто в тумане и не могу отличить яви от сна и бреда. Но, впрочем, очень вероятно, что они соседствуют друг с другом и даже пересекаются, так что я одновременно могу и спать, и бодрствовать.
Он крепко держал меня за руку своей мягкой рукой и все говорил и говорил:
— В минуты просветления я знаю и понимаю, что нельзя полагаться на разум человека и пытаться объяснить все законами привычной нам логики. Возможно, это только привычка, вредная привычка думать, что события следуют одно за другим по порядку. Разве не может быть иначе, разве не может все происходить одновременно, хотя мы этого и не замечаем?
Он улыбнулся, что бывало с ним очень редко, ласково посмотрел на меня и сказал:
— Минута моего прозрения, возможно, не столь уж и важна, как мне это сначала показалось, ибо сейчас ты, Турмс, видишься мне неким великаном, а тело твое стало огненным и светится сквозь твои одежды. Но мы-то знаем, что этого быть не может… Так вот, с некоторых пор я стал размышлять о смысле жизни, и мне открылось многое такое, что выходит за пределы нашей действительности. Однако все имеет свои границы, и я решил было, что познал больше, чем могу себе позволить, но тут мы оказались у сиканов, я попробовал их зелье и понял, зачем появился на свет и в чем смысл жизни.
Он по-прежнему крепко сжимал мою руку.
— Это глубокие знания, Турмс, и я передаю их сейчас тебе. Никогда нельзя доискиваться какого-либо смысла в явлениях и вещах, которые нас окружают. Наше мышление подобно панцирю, который и защищает нас, и делает неотделимыми от мира. Мы должны спасать себя, не полагаясь на разум, ибо никакого разума вообще не существует. Ведь его не видно, его нельзя пощупать или попробовать на язык. Существует только то, что видимо, и тот, кто понимает это, освобождается от власти богов.
Он отпустил мою руку, коснулся пальцами травы, посмотрел вдаль на синие горы и сказал:
— Мне надо бы радоваться, что я так много знаю, но ничего меня уже не утешает, и я чувствую себя так, будто бежал без отдыха несколько дней. Мысль о том, что когда-нибудь я проснусь и увижу землю такой же зеленой и прекрасной, как в детстве, и все вокруг будет радовать меня и дарить мне наслаждение, совсем не кажется мне привлекательной. Впрочем, сегодня я доволен собой: ты, Турмс, кажешься мне сильным и непобедимым, и к тому же я почти сразу узнал тебя, а это в последнее время бывает со мной редко.
Я смотрел на него с сочувствием и видел печать смерти на его расплывшемся лице, различал сквозь кожу и мышцы очертания черепа, его впадины, выпуклости и оскалившиеся зубы. Мне стало жалко Микона, ведь он был моим хорошим другом, но его обидел мой взгляд, и он сказал:
— Нет, Турмс, не надо жалеть меня. Такой, как ты — а измениться ты не можешь, — не должен никого жалеть. Сочувствие причиняет мне боль, а ведь я как-никак был послан к тебе богами, недаром же ты сразу узнал меня. Так узнай же меня и тогда, когда мы встретимся снова! Жалости же твоей мне не надо.
Его отекшее и расплывшееся лицо почему-то казалось мне отвратительным; на нем была написана такая зависть, что солнечное утро померкло для меня. И он почувствовал это, закрыл рукой глаза, встал и отошел, покачиваясь, в сторону. Я попытался его остановить, но он сказал:
— У меня пересохло в горле. Пойду-ка я к роднику. Я хотел сопровождать его, но он сердито цыкнул на меня и даже не обернулся, уходя. Больше его никто не видел. Мы пытались найти его, и сиканы тоже обыскали все заросли и расщелины скал, но Микона нигде не было, и мне стало ясно, что он имел в виду другой родник.
Я не осуждал его, полагая, что любой человек имеет право выбора — продолжать жизнь или отказаться от нее, как от слишком утомительного рабского труда. Мы оплакали его и совершили в память о нем жертвоприношение, но вскоре мне стало легче, ибо он бывал так мрачен и молчалив, что бросал тень на нашу жизнь. Зато Хиулс очень скучал без Микона — ведь тот научил его ходить, частенько гулял с ним, слушая невнятный детский лепет, и вырезал для него своим острым медицинским ножом игрушки из дерева, нимало не заботясь о том, что острие может затупиться.
Арсиноя очень рассердилась, когда узнала о происшедшем, и накинулась на меня с упреками, утверждая, что я совсем не заботился о Миконе.
— А вообще-то, какое мне до него дело? — наконец сказала она. — Странно только, что он не дождался моих родин, чтобы оказать мне врачебную помощь. Он же прекрасно знал, что я опять беременна, а мне хотелось бы рожать как культурному человеку и не доверяться глупым сиканским бабкам.
Я не винил Арсиною за ее жестокие слова, ибо беременность сделала ее капризной, а Микон и в самом деле во имя нашей дружбы мог бы подождать хотя бы месяц. Но пришло время, и Арсиноя легко разрешилась от бремени — она родила дочь на ложе из тростника в шалаше из ветвей; помощь опытных сиканских повитух, хотя она и подняла на ноги всех женщин, оторвав их от повседневных дел, ей не понадобилась вовсе. Она отказалась рожать на стуле с вырезанным отверстием, не послушав совета сиканских женщин, которые хотели ей помочь, а родила, лежа на подстилке, как и положено культурному человеку.
3
У сиканов я научился обретать желанное иногда одиночество, уходя на несколько дней в горы, где можно было поститься и слушать свою душу до тех пор, пока во всем теле не появлялась легкость и мне не казалось, что я мог бы взлететь. У них я научился также во время утомительного лесного перехода спасать жизнь самому слабому, делясь с ним собственной кровью; для этого наиболее выносливый вскрывал себе на руке вену. Однажды я так и поступил, хотя сиканы были мне чужими. С тех пор они считали меня своим братом; впрочем, дав им свою кровь, я так и не стал их соплеменником.
Я вспоминаю добрым словом безбрежные леса сиканов, вековые дубы, синие горы, быстрые ручьи. Но, живя среди этих приветливых дикарей, я всегда знал, что их страна — это не моя страна. Она осталась для меня чужой, хотя я хорошо узнал ее; точно так же остались для меня чужими и сиканы.
Пять лет я провел среди них, и Арсиноя привыкла к нашей жизни и стоически сносила все ее тяготы, потому что мы любили друг друга; правда, несколько раз она грозилась уйти с кем-нибудь из купцов, которые отваживались иногда появиться в этих лесах. Купцы были большей частью из Эрикса; они приходили, держа в руках зеленую ветку — знак мирных намерений, — и оставляли свои товары где-нибудь на видном месте, чтобы сиканы могли их осмотреть. Иногда сюда добирались также смелые торговцы из греческих городов Сицилии, а время от времени наведывались и тиррены с мешками соли, в которых они прятали железные ножи и серпы в надежде хорошо на них заработать. Сиканы же предлагали к обмену шкуры животных и разноцветные перья, связки коры для крашения, дикий мед и воск, но сами никогда не выходили из укрытия. Мне частенько доводилось помогать им в их переговорах с купцами, которые за долгие недели своего нелегкого путешествия так и не встречались ни с одним из местных обитателей.
Благодаря этим встречам и торговым сделкам я знал о том, что творилось во внешнем мире, и о том, сколь беспокойные пришли времена. Греки все настойчивее осваивали исконные земли сиканов, а сегестяне все чаще появлялись в лесах на лошадях и с собаками. Много раз приходилось нам убегать в горы, спасаясь от их отрядов. Но сиканы тоже умели устраивать ловушки своим врагам и нагонять на них страх звуками барабанов.
Разговаривая с пришлыми купцами, я ничего им о себе не рассказывал. Они принимали меня за сикана, по какой-то причине выучившего чужие языки. Были это большей частью необразованные люди, и их рассказам не всегда можно было доверять. От них, однако, я услышал, что после Ионии персы захватили острова на греческом море, в том числе и священный Делос. [35] Население островов увели в рабство, самых красивых девушек послали великому царю, а самых сильных юношей оскопили и заставили служить персам. Храм разорили и сожгли в отместку за гибель храма в Сардах, но великий царь не забыл и об Афинах.