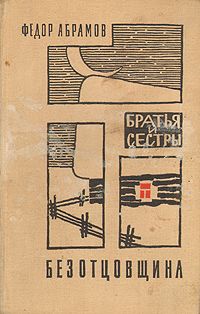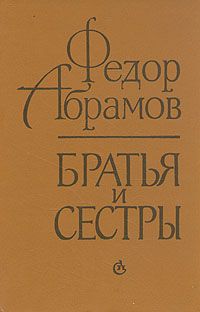Юрий Хазанов - Горечь
В общем, что-что, а скучать в этом обществе не приходилось: разговоры, споры, ссоры, даже доходящие до рукопашной. Правда, не слишком часто и не по причине опьянения (пили вообще мало), а токмо из-за чрезмерной горячности. Так некий довольно известный художник мог подраться с довольно известным пушкинистом, внезапно обнаружив некоторую разницу во взглядах на современную действительность. Или два признанных критика могли не как-нибудь, а навеки рассориться друг с другом в ходе совместной благотворной работы по воспитанию подрастающего поколения. А хороший и весьма смелый писатель мог безжалостно — с моей точки зрения — оттолкнуть от себя близкого друга, тоже литератора, когда тот, беспокоясь за его судьбу, посоветовал ему умерить свой гражданский пыл. Ситуация оказалась достаточно сложной и для того, и для другого — не хочу сейчас углубляться в неё, скажу только, что первый из двух друзей был целиком прав с точки зрения таких понятий, как собственная честь и достоинство — и впоследствии основательно пострадал, отстаивая их, — однако повторюсь: то, как он обошёлся со своим преданным другом, показалось мне чрезвычайно жестоким, а потому несправедливым.
Однако были в этой компании и не столь горячие персоны, а такие, кто, не уступая другим в таланте и твёрдости, не таили в себе взрывчатую смесь нетерпимости, а, напротив, обладали и достаточной снисходительностью, и меньшим грузом максимализма. Вот к ним, на мой взгляд, принадлежал и Боря…
Так или иначе, приближался Новый год, и Боря позвал нас с Риммой к себе на старую квартиру недалеко от метро «Полежаевская», где жил с женой и взрослым сыном. Я говорю про квартиру «старая», потому что была уже новая, трёхкомнатная, у метро «Аэропорт», которую он оплатил и должен был вот-вот туда переехать.
Мы собирались к нему пойти, но в самые последние дни перед Новым годом Риммин свояк, старый партийный работник, а до этого не то гусар, не то гренадёр в царской армии, но при всём этом хороший, добрый человек, предложил ей бесплатную путёвку в какой-то по тем временам шикарный санаторий, да ещё в Сочи. И Римма, вконец умученная моим подавленным настроением, а также бесконечными судебными делами о хищении и пьянстве на Холодильном комбинате N 1, с благодарностью приняла его предложение и укатила.
Одному идти к Боре не очень хотелось, но я вспомнил вдруг о приятной и красивой, что немаловажно, женщине по имени Лиза, с кем мы недавно познакомились в доме у Римминой сослуживицы, и — чем чёрт не шутит — чуть не за день до Нового года позвонил ей, почти не рассчитывая на согласие. К моему удивлению она сказала, что не особенно стремилась куда-то вообще пойти, но сын навострил лыжи к своим приятелям… Так что, в общем, спасибо за приглашение, она готова составить мне компанию… Тем более, что повесть Балтера «До свидания, мальчики» ей нравится…
Положение Бори к этому времени становилось всё хуже, хотя пока ещё он был на плаву и пожинал заслуженную славу и некоторые сопутствующие ей радости. Его повесть после опубликования в альманахе «Тарусские страницы» и в журнале «Юность» вышла уже отдельной книгой, по ней был поставлен спектакль в театре на Малой Бронной и снят кинофильм с тем же названием. (Только на экранах он долго не просуществовал, хотя пользовался успехом у зрителей, — его, пользуясь тем же глаголом, «сняли» с экрана. Даже сожгли копии. Но не из-за плохого поведения Бори — его наказание ещё впереди, — а на сей раз расправлялись с постановщиком фильма, режиссером Михаилом Каликом, кто раньше уже посидел в тюрьме, но после смерти Сталина его выпустили, он даже успел снять несколько фильмов, получивших известность. Сейчас он был наказан отлучением от работы в кино за то, что отказался пойти навстречу цензорам из кинокомитета и вырезать несколько кадров. В особенности тот, где изображался «ударный» труд рабочих соляных копей под аккомпанемент подвыпившего духового оркестра, наяривавшего музыку М. Таривердиева. Цензоры, конечно, добились своего — с помощью второго режиссёра, и тогда Калик устроил скандал и потребовал, чтобы сняли с титров его фамилию. В результате сняли и титры, и сам фильм.)
Невзгоды и беды у Бори тоже не заставили себя ждать. И тучи, сгущавшиеся над ним, порождала не только советская власть, но и собственные переживания Бори в так называемом «личном плане». Хотя у кого повернётся язык назвать этими двумя казёнными словами пришедшее к нему чувство любви?
Беда была в том, что чувства чувствами, но у него и у Гали уже немало лет были свои семьи, дети, однако отсутствовало жилище для новой семейной жизни. Правда, Боре вот-вот предстояло получить уже оплаченную трёхкомнатную кооперативную квартиру у метро «Аэропорт», но он и подумать не мог о том, чтобы разменивать её со своей бывшей женой. У Гали же вообще ничего не было, а свою шестнадцатилетнюю дочь она хотела непременно взять с собой… Так что всё находилось в подвешенном состоянии — и Борина судьба как писателя, которому вот-вот запретят печататься, да и вообще находиться на свободе, и будущая жизнь вместе с женщиной, которую полюбил; и, конечно, дальнейшее пребывание в партии, куда вступил по истинному зову души, с наивной надеждой, что она перестанет быть послушным инструментом в чьих-то зловещих руках.
Она не перестала и ещё какое-то время, как и положено ей, продолжала терзать его вызовами на собрания и собеседования, а потом всё-таки избавила его от себя, и он вздохнул, хотя и не радостно, но, по крайней мере, свободней. А печататься запретили, пьесу сняли с репертуара, кинофильм уже исчез с экрана. Боря нашёл в себе силы — стал переводить, по подстрочнику, какого-то узбекского писателя; написал два собственных рассказа. (Он читал их нам с Риммой — они были слабыми, он сам понимал.)
И всё это время он не замыкался в себе, а продолжал интересоваться другими людьми и событиями. Даже вернулся к разговору о моём вступлении в Союз писателей, сказал, что, несмотря на предупреждение председателя детской секции Льва Кассиля, чтобы я не торопился лезть в Союз, он советует мне подумать об этом и сам попробует помочь — в приёмной комиссии у него сохранились один-два знакомых, вполне приличные люди. Ещё он сказал, что и сам бы дал мне рекомендацию, но в данное время его одобрение может только навредить. Я вспомнил, что Андрей Сергеич Некрасов тоже выражал готовность написать эту бумажку, но ведь таких рекомендаций должно быть целых три. Да и как меня будут принимать, если издательства и журналы печатать не хотят? Но Боря напомнил про лежачий камень, под который, как известно, вода не течёт, и тогда я припомнил, что Лиза — да, да, та самая, с кем я собрался встречать у него Новый год, — рассказывала как-то нам с Риммой, что близкая её подруга Клара работает уже много лет литературным секретарём у известного всей стране Корнея Чуковского. Так вот, говорила нам тогда Лиза, Корней Иванович сейчас очень стар и много времени проводит у себя на даче под Москвой, а когда она бывает там с сыном в гостях у Клары, старик иногда просит мальчика почитать вслух что-нибудь новое из детских книг, и Шура, её сын, начал недавно читать ему рассказы из тех двух книг, которые Юра (это я) подарил им. И старику они вроде бы понравились…
Я сказал об этом Боре, и он повторил, что нужно запастись рекомендациями и что сейчас в приёмной комиссии перевес, как будто бы, на стороне приличных людей, а что будет дальше — неизвестно. (Боря был прав, потому что года через два, когда я всё-таки подал заявление о приёме в Союз, меня приняли с большим трудом, и одним из активных противников был человек по фамилии Кудрейко. Я его знать не знал, он меня тоже, но я со злорадством припомнил тогда, что это о нём в одном из своих стихотворений презрительно выразился Маяковский: «…Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки — кто их, к чёрту, разберёт?..»)
При моем вступлении в Союз писателей Борино дружеское участие было, пожалуй, больше на уровне добрых советов и пожеланий, но Римма осталась ему благодарна по гроб жизни (в полном смысле этого слова) — за то, что он помог ей устроиться на работу в юридический отдел Агентства по авторским правам. (Оно находилось тогда «на Лаврухе» — в Лаврушинском переулке.) Там она работала долгие годы с неизменным удовольствием и с интересом и вспоминала, как страшный сон, «холодильную» вечно полупьяную братию.
4
Не пугайтесь, читатель, у меня ещё не наступил полный упадок психофизической деятельности, ласково называемый маразмом, а потому смело листайте страницы дальше и читайте следующее:
«Дорогой сэр!
Мне выпала большая честь адресовать именно Вам самое первое письмо в моей жизни. Почему первое?.. Но позвольте сначала представиться: Робин Гуд. Да, да, тот самый — защитник бедных и обездоленных, верный друг обиженных и всегдашний противник неправды, лицемерия и жестокости.