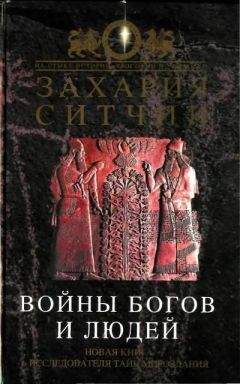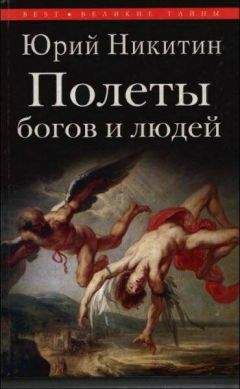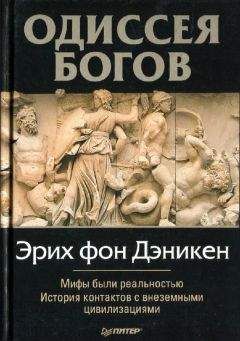Н. Северин - Звезда цесаревны
— Где замерзнуть! У него от радости кровь-то, поди чай, ключом в жилах бьет!
— Ты с ума не сойди от восхищения, как увидишь чудеса, что у нас во дворце…
Провожаемый этими шутками, Розум, как угорелый, вышел из флигеля, чтобы нагнать Тарасевича, который шагал большими шагами по тропинке, протоптанной по двору к галерее с колоннами, в которую он вошел, чтоб, не останавливаясь, пройти дальше, через светлую залу в коридор, с дверью, растворенною в полуосвещенные покои в конце и с плотно притворенными по одной стороне, против высоких окон, выходивших в сад… Здесь спутник Розума, остановившись перед одной из этих дверей, что была последняя к той, что выходила в освещенные покои, тихо в нее постучался. Почти тотчас же она растворилась, и из нее выглянула молоденькая девушка в белом кисейном очипке и в белом переднике.
— Вам Лизавету Касимовну, Илья Иванович? — вежливо спросила она.
— Ее самую. У себя она?
— Да вот они идут из покоев цесаревны, — указала девушка на приближавшуюся к двери в коридор из внутренних покоев женскую фигуру, которая, завидев издали людей, остановившихся у входа в ее помещение, ускорила шаг и, узнав Тарасевича, приветливо ему поклонилась.
— Вы ко мне, Илья Иванович? По делу, верно? — спросила она, с любопытством оглядываясь на остановившегося на почтительном расстоянии в неописуемом смущении Розуме.
— Точно так-с, сударыня. Вот позволил себе прийти, чтоб вам представить моего земляка Розума Алексея.
При этом имени Ветлова еще внимательнее стала всматриваться в красивое лицо юноши и с приветливой улыбкой спросила:
— Вашу матушку зовут Натальей Демьяновной? Много про нее наслышана от моего кума Федора Ермилыча.
— Вы знаете Федора Ермилыча? — радостно вскричал юноша с просиявшим лицом.
— Знаю и вас через него знаю: он мне про всех про вас рассказывал и про то, что вы такой способный к наукам и что у вас прекрасный голос…
— Его сюда привез полковник Вишневский, чтоб в императорскую капеллу определить, — вставил Тарасевич.
— Действительно, значит, голос у вас прекрасный, если уж Федор Степанович им прельстился, он такой же знаток в голосах, как и в винах, — прибавила она с улыбкой, не спуская глаз с разрумянившегося от смущения красивого лица юноши. — Да что ж мы тут стоим, войдите ко мне, господа, я теперь свободна — до вечера в большом дворце, на который едет цесаревна, остается добрых два часа, и она меня, надо надеяться, до тех пор не потребует…
Но Тарасевич, поблагодарив, извинился недосугом. У них должна сейчас быть спевка, и надо еще малышей подтянуть, чтоб не осрамились завтра перед цесаревной.
— А земляка, если позволите, я у вас оставлю, поколь он вам не надоест. Пусть он сам вам скажет, какой превеликой милости он ждет от вас, — прибавил он, кивая со смехом на своего спутника, который при последних его словах от смущения потупился.
— Ну, так войдите вы ко мне один, Алексей… Как вас по батюшке? Имя вашей матушки я хорошо помню, а как зовут вашего отца…
— Григорием, — отвечал юноша, входя за нею в большую светлую горницу, с окнами на двор, штучным полом из разноцветного дерева и красиво расписанным потолком, с массивной мебелью из красного дерева, с кроватью за ширмами в углублении и большим киотом, наполненным образами в красном углу, у высокого окна. У одной из стен стояли шкапы с книгами и стол с письменными принадлежностями, другая была вся увешана старинными гравюрами, до которых Лизавета Касимовна была большая охотница, все больше священного содержания. Перед иконами горела лампада, перед окнами шторы были спущены, на письменном столе стоял бронзовый канделябр с зажженными восковыми свечами. Пахло тут оранжерейными цветами, которыми дворцовый садовник по приказанию цесаревны украшал помещение ее любимой камер-фрейлины.
С первой минуты Розум почувствовал себя здесь так хорошо, точно давно знал и покой этот, и его хозяйку. И ведь оказалось, что он и на самом деле ее хорошо знал через Ермилыча: Лизавета Касимовна оказалась та самая Праксина, о которой он говорил и ему, и всем в Лемешах как о достойной супруге русского человека Праксина Петра Филиппыча.
— Я та самая Праксина и есть, — сказала она с улыбкой, когда юноша, перебирая друзей Ермилыча в Петербурге и Москве, назвал семью Праксиных как людей, которых и в Украине знают как истинно русских.
Весть о мученической кончине Петра Филипповича ни до Лемешей, ни до Чемер не дошла: Ермилыч не заглядывал туда с тех пор, как собирал там народный сход по случаю восшествия на престол внука Петра Великого, и сообщать о подробностях владычества под царским именем Меншиковых и Долгоруковых в том крае было некому; знали там люди одно только, что государство управляется не так, как следует, и что власть расхищается недостойными людьми благодаря малолетству царя. Первое время после воцарения сына царевича Алексея малороссы были обрадованы некоторыми льготами, что подало повод надеяться, что если один пункт из челобитной, доверенной ими Ермилычу, исполнен, то, может быть, обратят внимание и на другие, но надежды эти не оправдались, все их мольбы и представления оставались без ответа, и, наконец, до них дошел слух, что, пока царством правят Долгоруковы, не стоит ни о чем и просить — все равно ничего не прочтут и не захотят слушать.
— А уж как у нас загоревали, когда узнали, что цесаревна опять отсунута от престола! Уж так сокрушались, так сокрушались, что даже хотели прислать ей это сказать через выборных ходоков, да добрые люди отсоветовали, чтоб, Боже сохрани, ей без всякой для себя пользы не причинить лишней только скорби, — рассказывал Розум, ободренный милостивым вниманием, с которым его слушали.
— Да, теперь не пришло еще время русским людям нашей цесаревне преданность свою проявлять, — со вздохом заметила Лизавета Касимовна. — Надо ждать, чтоб час воли Божией наступил, ждать и молиться.
Она расспрашивала о его семье, и он рассказал ей про то, как бедствует его мать, поднимая на ноги, одна, многочисленную семью, и как Бог милостив, посылая им свою помощь в трудные минуты. С наивным чистосердечием и чувствуя все возрастающее доверие к своей слушательнице, которую до глубины души трогала его чистая вера в промысел Божий и беззаветная любовь к матери и ко всей его семье, распространялся он о множестве случаев в жизни этой семьи, доказывавших, по его мнению, с поразительною очевидностью этот пекущийся о них промысел свыше.
— Так туго маме нашей пришлось, когда я должен был бежать к дьячку в Чемеры, так туго, что она решила нищенскую суму надеть да милостыню просить, и вот идет домой из города с такими думами, а ей вдруг как блеснет в глаза что-то такое в траве. Нагнулась, видит ножик, да такой хороший, дорогой, в чистое серебро оправлен — целый карбованец жид за него дал. Верно, важный пан, едучи на охоту, обронил на наше счастье. До осени хватило денег прокормить семью, а тем временем работа подвалила, со всех сторон посылают за мамой нашей, чтоб то у одного из соседей, то у другого хату обмазала. Мастерица ведь она у нас на все руки, — прибавил он с гордостью. — Ни одному из нас с нею ни за что не сравняться.
— Оправитесь здесь, Бог даст, будете ей деньги в Лемеши высылать, — заметила с улыбкой Ветлова.
— Ох, кабы да скорее мне хоть чем-нибудь ее успокоить! — вздохнул он. — Трудно, говорят, жить при императорском дворе человеку простому, люди взыскательные и недоброжелательные. Издеваться надо мною, поди чай, станут, — прибавил он, поднимая на свою слушательницу ясный взгляд своих красивых глаз. — Ведь я, что же, простой казак, никакой полуры у меня нет, ни встать, ни сесть, ни разговаривать по-придворному не умею… Вот вы, сударыня, по сердечной вашей доброте, изволите моими простыми речами не брезговать, так вы, поди чай, одна такая здесь, а впрочем, кому я здесь нужен? Ведь ни одного человека я здесь не знаю…
— Как не знаете? А Илья Иванович Тарасевич, который вас сюда привел? А теперь вот и меня узнали, Бог даст, со временем заведется у вас и знакомых и друзей много, свет не без добрых людей, Алексей Григорьевич… К тому же, если захотите над голосом своим работать, скучать вам и времени не будет.
— Я о голосе своем и думать перестал с тех пор, как Федор Степаныч предложил в Петербург меня с собою взять…
— Как же это? Ведь из-за голоса-то вас сюда и взяли, чтоб вам в царской капелле петь?
— Оно так-то так, только мысли у меня совсем на другое повернулись, и никак не могу я с сердцем своим сладить, ничего не поделаешь! — вымолвил он с отчаянием.
Лизавета Касимовна слушала и смотрела на него с возрастающим недоумением. Что-то в этом юноше было странное: неестественная восторженность какая-то, при большой природной сдержанности, заставляла его помимо воли высказывать то, что ему хотелось скрыть, и, опомнившись, он от смущения приходил в такое замешательство, что жалко было на него смотреть. Вспомнив, что Тарасевич, уходя, намекнул на какую-то просьбу своего земляка, исполнить которую как будто зависело от нее, она напомнила своему собеседнику про этот намек и прибавила к этому, что с удовольствием сделает для него все, что в ее силах.