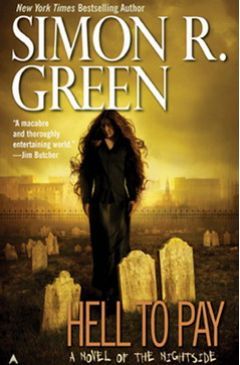Григол Абашидзе - Долгая ночь
В первый день, когда ее привезли и сказали, что она будет теперь женой великого, доблестного и благородного Джелал-эд-Дина, она удивилась: где же у властителя мира хрустальные дворцы, бесчисленные жемчуга, табуны арабских лошадей и пышные сады, в которых поют соловьи над розами? Ее муж ночевал то в лесу, то в степи, а иногда и всю ночь проводил в седле, торопясь быстрее преодолеть расстояние от одного места на земле до другого.
Но удивление скоро прошло. Более того, дочь атабека сама очень скоро привыкла к образу жизни султана, к постоянным опасностям, к беспокойному сну то в лесу, то среди полей, к внезапным пробуждениям и к бегству на конях в кромешную тьму.
И где бы ни остановился султан, первым делом устанавливали шатер для его молодой жены, так что ей никогда не приходилось ждать и прямо с коня она переходила в свой привычный шатер, как будто все на том же месте, и не было скачки, и не осталось за спиной расстояния, преодоленного быстрым конем.
Ну, а шатер, где бы он ни стоял, был убран роскошно, достойно царицы, и всегда перед сном была широкая горячая грудь султана, его объятия, после которых спится так спокойно и крепко.
Чем хуже складывались дела султана, тем чаще и жаднее обращался он к своей последней любви, стремясь не то забыться, не то насладиться за все те будущие годы, которые могли бы быть, но которых, как говорило предчувствие, не будет.
Но любовь не ослабляла тоски, и приговор судьбы не отдалялся после любовной ночи.
И сейчас, войдя в шатер, султан набросился на сонную молодую жену. Ее тепло, тепло постели, тепло сонного женского тела ударили в голову темным дурманом. Никогда еще его ласки не были столь ненасытны и требовательны, и никогда еще молодая жена не отвечала на них столь самозабвенно и щедро.
Отдыхая, женщина пригубливала шербет, отщипывала понемногу от крыла турача. Султан же ел жадно, как будто три дня ничего не было во рту, и пил из большой чаши, то и дело наполняя ее душистым красным вином.
Они не знали, что это была их последняя ночь.
Захмелевшему султану захотелось видеть перед собой сотрапезника, собутыльника, собеседника. Он, покачиваясь, вышел из шатра и отправился к Несеви. Чутье кошки, чутье ночного зверя подсказало ему, что как будто кто-то из темноты следит за каждым его движением и готов наброситься, но хмель притупил инстинкт самосохранения, к тому же шатер Несеви был рядом, и султан ввалился в него.
Мохаммед сидел за столом и писал послание, которое следовало отправить в Иконию и Хлат. Джелал-эд-Дин бесцеремонно тяжело сел, почти упал на стул против Несеви, сгреб одной рукой листы бумаги с невысохшими чернилами на них, смял и швырнул в темный угол шатра.
У Несеви слезились глаза от бессонных ночей, проводимых за бумагами султана. Он схватил было повелителя за руку, когда тот скомкал все его старания и труды, но тотчас отдернул руку, как от раскаленного железа, и, оправдываясь, сказал:
— Это письма к правителям Иконии и Хлата, мой господин.
— В тартарары Иконию и Хлат! Нашему делу не помочь. Прикажи-ка лучше накрыть на стол. — Султан первый захлопал в ладоши, вызвал слуг.
За столом сидели двое — султан и его верный, пожалуй, самый верный, единственный верный слуга и летописец Несеви. Султан пил, потеряв всякую меру. Одну за другой он опрокидывал в себя чаши, полные терпкого вина. Мохаммед был непривычен к вину, с отвращением он подносил к губам чашу, немного отхлебывал от нее. Но так как подносить чашу к губам приходилось часто, то у Мохаммеда появилось тошнотворное чувство, как будто он отпивал из чаши не дорогое вино, а отвратительную отраву.
Султан позвал музыкантов. Сначала он заставил их играть, а потом начал поить вином. Музыканты отказывались, но султан чуть не насильно вливал им в глотки вино из своей огромной чаши. Наконец ему надоело упрямство музыкантов, и он выгнал их из шатра, наподдав каждому ногой.
Казалось, разум совсем покинул Джелал-эд-Дина. Он говорил бессвязно, перескакивая с одного на другое, но неожиданно угомонился, пододвинул свой стул к Несеви, обнял его за плечи и тихо заговорил:
— Вот уж пятую ночь не отстает от меня мой отец, великий, доблестный хорезмшах.
— Что ему надо от тебя, — нахмурился Несеви, — хорезмшах принял мученическую смерть и теперь блаженствует в обители аллаха в одеждах, сотканных из света…
— Нет, как только закрою глаза, так он тут как тут. Он по-прежнему властитель мира, но зовет меня зачем-то на остров, где пирует с рабами, покрытыми проказой, и мне предлагает место на этом ужасном пиру. Ха-ха-ха-ха-ха! Джелал-эд-Дин, пирующий с прокаженными рабами, разве не великолепная картина, разве не достойный конец хорезмшахов — отца и сына?!
— Великий хорезмшах действительно умер на острове среди прокаженных. Но такова была, значит, воля аллаха, может быть, это было наказание хорезмшаху за все его земные грехи, дабы пройти через скверну, очиститься от грехов и вознестись к престолу аллаха, где вечное сияние и вечные радости.
— Ха! Наверно, аллах хочет, чтобы и я, вслед за отцом, сбежал на пустынный остров, питался там хлебом из рук прокаженных и заживо превратился в гнилое мясо. — Султан вдруг что было силы ударил кулаком по столу. — Аллах несправедлив, слеп и жесток. Я не хочу, я не пойду на остров в Каспийское море, я не хочу к прокаженным, я не хочу… — Султан сгреб Несеви за воротник, но тут же отпустил, оттолкнул ногой стул, опрокинул стол с вином и яствами, сам свалился на пол и захрапел.
В это время у входа в шатер послышалась какая-то возня. Несеви высунулся из шатра. Мамелюки — телохранители султана — держали за руки поэта Торели. Один упирал схваченному в грудь острое копье, другие ременной веревкой вязали руки. У ног Торели валялся обнаженный кинжал. Турман пытался вырваться, но попытки его были беспомощны и жалки. Несеви сразу понял, что произошло, и поглядел на своего пленника не то с презрением, не то с жалостью.
— Ведите его за мной, — приказал Несеви мамелюкам и пошел вперед.
Дойдя до шатра Торели, он снова приказал:
— Развяжите его. — Мамелюки беспрекословно повиновались, — а теперь идите и охраняйте султана.
Когда мамелюки ушли, Торели и Несеви вошли в шатер. Торели отводил глаза от глаз Несеви, смотрел в сторону. То ли ему было стыдно, что он решился на такой поступок, то ли ему стыдно было, что он не сумел его исполнить. Не хватило ловкости либо мужества.
В шатре Несеви сел, а Торели остался стоять. Несеви говорил:
— Я тебя спас от смерти, это верно. Но помиловал тебя по моей просьбе султан. Сейчас ты догнивал бы там, у Гарнисских скал, со всеми вместе. И вот как ты нас отблагодарил.
Торели все ниже, словно провинившийся ребенок, опускал голову.
— Я мог бы ждать подобной неблагодарности от какого-нибудь простолюдина, от бесчувственного скота, но ты, придворный поэт и рыцарь, решился поднять руку на султана, даровавшего тебе свет солнца и звезд.
Торели молчал.
— Не так уж плохо поставлено дело при дворе султана, чтобы всякий прохожий, кто только пожелает, а тем более его пленник мог бы походя зарубить его. Но ты, поднимая руку на султана, поднял ее и на меня. Потому что я взял тебя на поруки, твоя вина легла бы на меня еще большей виной. Убивая султана, ты одновременно погубил бы и меня, не говоря уж о себе самом.
— Перед вами я виноват, господин мой. Но любовь к родной Грузии и долг патриота… Эти обязанности превыше всех. Вот почему я решился взяться за оружие и поднять его на султана.
— Долг перед родиной… Тогда не надо было служить мне верой и правдой столько лет. Вон монгол сам воткнул себе копье в живот, как только узнал, что великий вождь Чингисхан скончался. Да и чем бы ты теперь услужил Грузии, убив Джелал-эд-Дина?
— Вы же сами говорили, что Джелал-эд-Дин — злая судьба Грузии, ее рок и что султан не отступится от моей страны, пока не разорит ее до конца и пока не истребит весь народ до последнего грузина.
— Вы виноваты сами. Все ваши беды от вашей недальновидности, от вашего безрассудства. Если бы вы были умнее, вы избежали бы войны с хорезмийцами, вы снабдили бы султана золотом и войсками и мы вместе с вами, плечом к плечу, воевали бы с нашим общим врагом — с монголами. Теперь монголы надвинулись, и, если бы ваша страна была вовсе не тронутой Джелал-эд-Дином, все равно она была бы сокрушена и разорена монголами. Против них ли вам устоять?
— Монголы когда-то еще придут, а Джелал-эд-Дин терзает мою страну сегодня. И долг каждого грузина уничтожить тирана и спасти народ.
— Потому вы и страдаете, что не хотите видеть дальше одного дня. Если бы вы по-настоящему заботились о благе своей страны, то должны были бы понять, что нашествие Джелал-эд-Дина — есть мгновение, мимолетная тень по сравнению с той долгой и непроглядной ночью, которая надвигается в виде монголов. Джелал-эд-Дин — волна, которая перекатилась через вас и отхлынула снова. Монголы же — океан, которому нет конца ни вглубь, ни вширь, ни во веки веков.