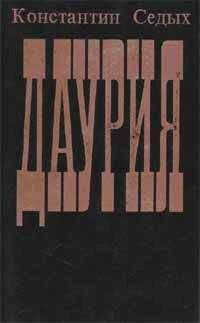Марк Алданов - Пещера
Сам же он и в молодости, и до последнего дня думал совершенно иначе, и счастливейшим днем его жизни был тот день, когда император ему сообщил, что назначает его главнокомандующим всеми вооруженными силами империи, вместо герцога Фридландского. В этот день, ложась на свою жесткую постель, граф Тзерклас Тилли долго и радостно смеялся, думая, что, быть может, в эту самую минуту посланец императора, канцлер Верденберг, сообщает Валленштейну о немилости и отставке.
В этот же вечер, рожденный в пещере Меркурий, благосклонный к ворам и поэтам, зловеще показался в седьмом небесном доме, заградив путь Марсу. День был не Меркуриев: не среда, а четверг. Но и сердце говорило то же, что звезды: быть беде. Тоска и бешенство томили душу Валленштейна. Склониться перед решением сейма, перед мелкими завистливыми князьками, перед маленьким человеком, который правил Германией, ибо родился Габсбургом! Чувствовал в себе не растраченные большими делами, еще почти безграничные силы, — кто другой мог отразить Густава-Адольфа, кто мог прекратить нелепую междоусобную войну, кто мог спасти германскую землю? Неправ лукавый Сократ, говоривший радостно: «как много в мире вещей, которые мне не нужны!» — Все нужно человеку с ненасытной душою.
Не открытая герцогская корона, когда-то волновавшая воображение, так давно надоевшая, — закрытая корона императора, с золотым полукругом, с изображением мира, с крестом, корона Карла Великого, все тревожила сердце. Об этом нельзя было говорить даже с астрологом. Об этом нельзя было говорить ни с кем. Но кто мог бы читать, как в книге, в сердцах людей, тот, при виде Альбрехта Валленштейна в пору его занятий звездами, наверное, сказал бы, что одна сокровенная, неотступная, мысль гложет, томит и, наконец, разорвет душу этого человека.
Двинуть же армию на Регенсбург было трудно, очень трудно, ибо велика над людьми власть породы, еще крепче власть привычки, и много ли офицеров пойдет за простым дворянином против потомка Рудольфа Габсбургского? Итальянец-астролог робко спорил: Меркурий непостоянен, в четверг он ничего означать не может. Заглянули в пророческий календарь. На его обложке значилось, что составлен он Иоганном Кеплером, честным математиком герцогства Штирийского. На 1630 год предсказаний, как на беду, не было, — были на другие годы. Можно, правда, заказать: старичок всегда принимал заказы, — только этим и жил.
Сени молчал с видом достойным и обиженным: уж если ему предпочитают шарлатана! Достали другие инструменты, принялись составлять гороскоп. Непостоянный Меркурий стоял на своем: быть беде. Сени согласился с герцогом, — его светлость всегда прав, больших дел теперь начинать не должно; но дальше звезды связываются превосходно: только переждать, и счастье вернется. Валленштейн тщательно проверил. В самом деле, было так. И в это самое время ему доложили о приезде из Регенсбурга посланца императора, канцлера Верденберга.
От столь отчаянного человека можно ждать всего. Канцлер очень беспокоился: вдруг прикажет арестовать и двинет свои войска на Регенсбург! Нет в Германии ни такой армии, ни такого полководца. Узнав же от мажордома, что у его светлости сидит итальянский плут, Верденберг и совсем испугался: не любил, чтобы звезды вмешивались в государственные дела, плутов предпочитал обыкновенных, — не звездных, — а сумасшедших боялся, как огня. Канцлер давно привык прятать чувства под спокойную улыбку, но на этот раз они из-под улыбки выскользнули, и в глазах мелькнул ужас при виде герцога Фридландского у стола с приборами. Валленштейн понял и усмехнулся. Александр, Помпеи, Цезарь верили звездам, — старый хитренький чиновник не верит! Нет людей, недоверчивее глупцов, нет никого глупее скептиков.
Цветистая же речь канцлеру не понадобилась. Герцог прервал его с первых слов и чуть было не обнял от радости. Неужели правда? Неужели его величество над ним сжалился и всемилостивейше освободил от дел, во внимание к расстроенному здоровью? Верденберг тотчас успокоился: слава Господу Богу! Значит, звезды на этот раз пригодились.
Узнав же, что преемником его будет граф Тилли, Валленштейн почти утешился и вправду: где старому дураку справиться с Густавом-Адольфом! Герцог Фридландский весело сказал, что его величество не мог сделать лучшего выбора.
К ужину пригласили генералов. Ужин был такой, какого канцлер не помнил и в императорском дворце, — оценил, хоть страдал катаром желудка. Потом сели играть в эсперанс, в три жетона. Партия затянулась, никто не выходил в мертвецы. Канцлеру везло: у других оставалось по одному жетону, а у него два. И вдруг выбросил он из рожка сразу и туза, и шестерку. Все захохотали.
— Вы бесславно умерли, господин канцлер! — сказал, смеясь, герцог.
— Il me reste l’espérance[225], — ответил Верденберг, отдавая свои жетоны. Он любил говорить по-французски.
После игры канцлер простился с хозяином так цветисто, что все гости заслушались, и вышел на крыльцо. Перед крыльцом стояла великолепная карета, запряженная кровными лошадьми рыжей масти. Пышно одетый человек, сняв шляпу с перьями и низко поклонившись гостю, сказал торжественно и важно, что его светлость Альбрехт, Божьей милостью герцог Мекленбургский, Фридландский и Саганский, князь Венденский, граф Шверинский, Ростокский, Штаргардский и других земель, главнокомандующий всеми армиями и флотом его императорского величества, просит его превосходительство господина канцлера принять на память, в дружеский дар, коней, карету и все то, что его превосходительство найдет в карете.
И долго еще на обратном пути радуясь подарку, канцлер думал, что же такое он получил бы, если б привез не злую, а добрую весть этому загадочному человеку.
XII
Серизье не удалось выехать из Довилля в первом поезде; вернулся он в Париж поздно вечером. Подъезжая к своему дому, он, как всегда после отлучки, испытывал беспокойное чувство: какие еще будут неприятности? Такое ожидание, он знал, от неприятностей страхует: они приходят неожиданно. Серизье не любил возвращаться в Париж до начала большого сезона: по его наблюдениям, главные огорчения да и общественные несчастья, как мировая война, чаше всего случались именно в мертвый сезон.
Сухо щелкнул автоматический замок. Консьержка выглянула из завешенной стеклянной двери. Узнав Серизье, она что-то на себя накинула, вышла на площадку, и стыдливо, таинственным шепотом, с радостной улыбкой, осведомилась, хорошо ли он отдохнул. Серизье поздоровался с ней за руку, спросил, здоров ли ее ребенок, и все ли благополучно в доме. Оказалось, что ребенок здоров и что в доме все благополучно. Жюстин должна вернуться только послезавтра, — мосье это ведь ей разрешил? Мадмуазель Лансель приходила днем; она так и думала, что мосье приедет вечером. Квартира в полном порядке, письма и газеты сложены на письменном столе в кабинете мосье. Серизье, несколько успокоенный (хоть консьержка о неприятностях не могла знать), пожелал, тоже полушепотом, покойной ночи и поднялся наверх. Электрическая лампочка, как всегда, погасла, когда он вступил на лестницу третьего этажа; это тоже произвело на него успокоительное действие, — так было давно знакомо и привычно. Он не успел нажать кнопку, как лампочка зажглась: консьержка, из внимания к лучшему жильцу дома, оставалась внизу, пока он не повернул ключа в дверях своей квартиры.
На письменном столе лежала груда конвертов. Серизье пробежал письма. Никаких неприятностей не оказалось. Напротив, в одном письме было очень приятное известие: большое дело, которое он вел в суде и которое могло затянуться, заканчивалось примирением сторон на предложенной им основе. Оставалось только составить документ. Это для Серизье означало заработок тысяч в двадцать пять. Письменного условия, правда, с клиентом не было, — запрещала традиция парижской адвокатуры, казавшаяся ему нелепой. Однако был твердый словесный уговор.
Под пресс-папье лежали вырезки из газет, — «грязевая ванна». Но Серизье был в таком радостном настроении духа, что даже не заглянул в вырезки. Он с усмешкой посмотрел на пресс-папье, словно говоря невидимым противникам: «Сделайте одолжение, друзья мои, мне совершенно все равно!» Сняв воротник, он прошел в ванную, зажег синенькое пламя над трубкой газового аппарата, повернул кран, пламя вспыхнуло по рожкам, — все это тоже было так привычно, уютно, приятно. Он думал, что на курорте хорошо, но дома лучше: уж очень благоустроена его парижская квартира, Серизье разделся, вернулся в кабинет за несессером и опять, выдержав характер, с торжествующей усмешкой поглядел на коварное пресс-папье. «Пожалуйста, не стесняйтесь, друзья мои…» Приняв ванну, он лег и мгновенно заснул.
Серизье проснулся на следующее утро много позже обычного, в самом лучшем настроении духа: в переходную минуту от сна к сознанию радостно смешалось что-то довилльское с чем-то парижским. Потом сознание уточнило: Муся Клервилль, выигранное дело. Он сладостно потянулся. «Да, дело кончено, двадцать пять тысяч. Надо только написать бумагу…» Серизье не встал, а вскочил как юноша, — несмотря на брюшко, — надел халат и вышел в столовую. На столе лежали свежий хлеб, масло, газета; все это бесшумно приготовила консьержка, заботившаяся о нем, как о родном.