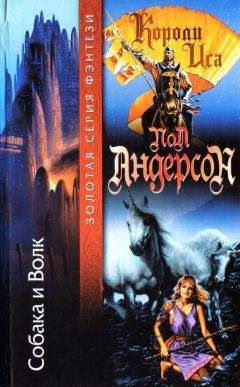Свен Дельбланк - Пасторский сюртук. Гуннар Эммануэль
Опять меня обуяла гордыня. Допустимо… Все, что выпадает из шаблона строгой вероятности, ты толкуешь как вышнее вмешательство в твое бытие. Спесивый безумец. Так говорит здравый смысл. Но ты не слушаешь голоса здравого смысла. Он уже повернулся к реальности.
Лунный свет как прохладная зеленая вода. Как напряженно я живу в этот миг, как отчетливо различаю контуры вещей. Пыльно-серая пленка поверх реальности смыта лунной водой. Я уже не сплю. Я вижу. Вот, значит, какая она, реальность. Бодрствующая реальность смотрит на меня блестящими глазами, словно читает в моем лице, и бесконечное время сжимается в секунды, и ликование — как болезненная, набухающая тяжесть в груди.
Да. Я знал это наперед. Знал, что в конце аллеи увижу дворец. Спящий дом под луной, с одиноким освещенным окном. А во дворе — живой источник. Я так и знал.
Будто во сне, он идет к фонтану. Китайский дракон изрыгает тихо журчащую водяную струю, и блики света, словно трещины в зеркале, бегут по лунному серебру в чаше фонтана. И больше ни звука, только последний осенний сверчок изредка проводит осколком стекла по своей серебряной струне. Стриженые шары кустов — будто аисты, спящие на одной ноге. Могучий дуб за домом облокотился на крышу и спит. Герой садится у фонтана и впускает сад и ночь в свое существо. Мир нисходит в его душу. Жить бодрствуя — значит впитывать в себя все окружающее. Мир — это свойственный живому покой сосуществования.
Чаша фонтана — обыкновенная дубовая колода. Светлая от луны вода — как расплавленное серебро, трепещущее, беспокойное, то и дело расцветающее венчиками концентрических кругов, когда тонкая серебристая струйка, рассыпаясь брызгами, ударяет о поверхность. Ярость дракона пленена в бронзе. Источник в своем неумолчном журчанье и звоне — до боли реален и чист. А луна продолжает свое странствие.
Реальность бурлит-клокочет в котле возможностей, подступает к краям, вскипает перламутровой пеной, выплескивается через край, словно буйный живой цветочный венчик. Он окунает руку в чашу — пригоршня наполняется лунным светом. Вода приникает к нему. Влага в ладони — зыбкий серебряный диск. Он осторожно выпускает ее в чашу, на волю. Непостижная вязь прохладных водяных сполохов дрожит на поверхности, и на секунду реальность пронзает его существо острой болью — будто зрачок проткнули серебряной булавкой.
На первых порах человек во мраке у него за спиной не имеет ни малейшего значения. Он ведь не вовне, он объят и включен в круг, как садовые кусты и деревья. Частица единства, объемлющего мир.
Но мало-помалу волна начала отступать. Он погрузил руку в воду, словно собираясь поискать оброненную монету. Напрасно. Она взблеснула раз-другой, все тусклее, все слабее, и скоро исчезла. Реальность покинула его «я», обернулась противоположностью, враждебным окружением. Темный и чужой стоял у него за спиной тот человек, грозный, как тюремщик.
Он погрузил руку в воду и ощутил прохладу. Уже не текучий лунный свет, не текучая серебряная реальность. Холодная вода. Не восторг. И не отвращение. Лишь холодная и чистая безнадежность.
До чего же бессмысленно все, что со мной происходит. В моих корнях нет силы. Меня постоянно швыряет из низшей реальности в высшую. Но после ничто не меняется. Я не могу никого взять с собой в странствие. Не могу даже свидетельствовать о бодрствующем мире моим спящим собратьям, ибо спящий глагол здесь не властен. Бессмыслица.
Он поднес руку ко рту и стал пить. Вода была прохладная и свежая, цены ей нет в краях войны. Он ужасно хотел пить. Солдат, утоляющий жажду у фонтана. Ничего особенного.
— Что тебе нужно от меня?
— Его превосходительство ждет.
— Я готов.
Он входит за слугой в безмолвный дворец. Странница луна двигается медленно, устало. Рука у него болит от ледяной воды, пальцы сводит мучительной судорогой, скрючивает как когти хищной птицы.
XIII. Метаморфозы величия
Слуга остановился перед старомодной дубовой дверью — створки медленно, с жалобным скрипом, распахнулись настежь.
— Вас ожидают.
Балки под потолком в седых бородах паутины. Потемневший, в трещинах, глобус — точно яйцо Феникса в дубовом гнезде. На стенах темные портреты — какие-то мужчины в латах. За письменным столом, огромным, точно линейный корабль, с полочками, карнизами, нишами, резными гирляндами и планками, сидел древний старец. Допотопный алонжевый парик надвинут на лоб до самых сросшихся бровей. Запавший, белый как мел рот пережевывал беззубыми деснами невнятные, бессмысленные слова. Голова покачивалась в такт ударам пульса. Подбородок в буграх и морщинах, словно мозолистый кулак. Руки, обтянутые желтовато-белыми замшевыми перчатками, лежали на столе, похожие на два дочиста обглоданных птичьих остова. Перед старцем среди карт и заметок алел продолговатый бархатный футляр.
Герман сел на табурет возле стола. В самом деле древний старец. Воспаленные слезящиеся глаза вращаются в глазницах. Челюсти жуют, птичьи остовы на столе судорожно дергаются. Да, тут смотри в оба. С виду хрупкий, немощный, а силы, видать, в запасе найдутся. Портреты на стенах так и сверлят меня взглядом — уж не их ли глазами старикан наблюдает за мной?
Старик судорожно зевнул, выставив на обозрение беззубые розовые десны. Шлафрок на груди распахнулся, открыв помятый ржавый панцирь, украшенный неистово вопящей Горгоной чеканного серебра. Голова старика торчала из стальной скорлупы как вялый цветок из вазы.
Откуда-то тянуло сквозняком — пламя свечей в стенных шандалах легонько трепетало, паучьи тенета под потолком покачивались, словно водоросли в волнах зыби. Луна чертила на полу дрожащую зеленую мозаику.
Старик уперся подбородком в нагрудный панцирь и с усилием проговорил:
— Я ждал тебя.
— Я знаю.
— Ты меня узнаёшь?
— Да.
Голос у старика моложе, чем лицо. Портреты на стенах украдкой многозначительно переглядываются.
— Ты знаешь, кто я?
— Думаю, да.
— Я — Клод Луи Эктор герцог де Виллар, маршал Франции.
— В самом деле?
— Да.
Герман поклонился, не вставая с табурета. У него было мелькнула мысль по-военному отдать честь, но он тотчас ее отбросил. Герцог де Виллар? Ситуация становится забавной.
— Как вам будет угодно. Герман Андерц á votre service. Разумеется, я безмерно польщен. Но почему?
— А почему нет?
— Я большой почитатель вашего полководческого гения, уверяю вас, это одно из величайших мгновений моей жизни. Я с восторгом читал ваши мемуары. Только одно меня несколько смущает…
— Говори.
— Вас теперь не должно быть в живых.
— Не должно быть в живых? Меня? Кто это сказал?
— О, всякие историки и ученые, долго перечислять…
— Историки? Вздор! Но так или иначе отрадно слышать, что оболгали меня не знатные особы. Лживые щелкоперы. Они сообщают лишь о том, чему бы следовало произойти. Несущественные пустяки.
— Да, конечно. И ваше превосходительство в добром здравии?
— В моем возрасте человеку не пристало жаловаться. Хвала… Да. Хвала Провидению.
— Воистину так. Неисповедимы пути Его. Вам, поди, уже изрядно за сто?
Старик самодовольно усмехнулся и обвел взглядом обветшалые вещицы на столе. В скрипучем голосе сквозила деланная кротость.
— Да-с. Через два месяца сравняется сто тридцать.
— Нет! Быть не может!
— Клянусь!
— Господи Боже мой, ваше превосходительство, согласитесь все же, что…
— Сударь! Не забывай, я — маршал Франции.
— В таком случае я обязан вам верить.
— Вот и ладно.
— Ваше превосходительство желали говорить со мной?
— Да. Хочу сделать тебе маленький подарок. Прошу. Он твой. — Птичий остов ожил, тронул красный футляр. — Ну же, открой.
В футляре был маршальский жезл, обтянутый алым бархатом, украшенный черным бранденбургским орлом. Герман взвесил тяжелый жезл на ладони — толстый, массивный, как деревянная дубинка, и словно набухающий силой под его любовным прикосновением. Старик довольно заквохтал.
— Ну что? Недурственно — получить жезл, а? Я помню, как это было.
Герман приставил жезл к бедру и церемонно поклонился.
— Тысячу раз благодарю. Ваше превосходительство оказали мне огромную честь. Но в моем положении сей дар едва ли не оскорбителен.
— Отчего же?
— Я всего-навсего простой солдат.
— Простой солдат? Ventre-saint-gris! Ты, черт возьми, прусский фельдмаршал!
— Правда?
— Черт возьми, да ты никак опять обвиняешь меня во лжи?
— Что вы, у меня такого и в мыслях нет. Только очень уж это неожиданно. Я, разумеется, весьма горд и польщен.
— Очень надеюсь. Столь скорые повышения по службе случаются не каждый день.
— Или столь незаслуженные. Не знаю, как вас и благодарить. Можно ли мне теперь идти?