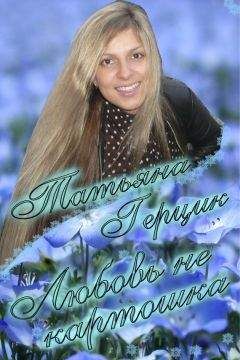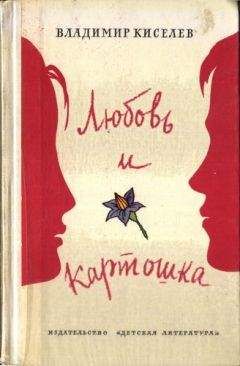Илья Сельвинский - О, юность моя!
— А ты разве не знаешь?
— Нет.
— Витя, Сенька и все его сестры арестованы и расстреляны.
— Расстреляны? Как? Где?
— Еще в прошлом году. Повезли их в теплушке на полустанок Айсул, под Семью Колодезями, открыли дверь и всех перекосили из пулемета.
У Леськи перехватило в горле. Он сделал несколько глубоких вдохов и сдержался.
— Еще вопросы есть?
Леська помолчал. Потом спросил глухим голосом:
— Что я должен делать?
— Вот это разговор другой. Пока что ты должен разыскать своего дружка Володю Шокарева. Он сейчас в Симферополе. Шляется тут, щеголяет в студенческой фуражке, а сам нигде не учится.
— Ну, допустим, разыщу.
— Пока все. Разыщи и продолжай дружбу. А что дальше сообщу в свое время. Кстати, Шокарев часто бывает в кафе «Чашка чая». Деньги у тебя есть?
— Есть.
Еремушкин ушел. А Леська долго еще сидел на скамье и видел перед собой Виктора Груббе в матросской фуражке с надписью «Судак», Сеньку Немича с его неизменной цацкой, а из сестер почему-то среднюю, Варвару. Убиты... Все убиты... Из пулемета... Леську охватил пафос мщения. Найти Шокарева! Как можно скорее найти Шокарева!
От Леонидовых керенок осталось совсем немного. Леська купил житного хлеба и пошел домой. Дома никого не было. Ключ, как всегда, висел на гвоздике в прихожей. Умирая от голода, Елисей вошел в комнату Кавуна и стал шарить, нет ли чего съестного. Беспрозванного он жалел и не мог позволить себе хоть чем-нибудь попользоваться у старика.
На окне, за ставнем, в чистой белой тряпочке жил-был кусок свиного сала. Леська развернул тряпочку и понюхал. Если б сало имело запах свечи, он оставил бы его в покое. Но пахло оно рождеством и елкой. К тому же было настолько свежим, что в глубине просвечивало розоватым. Леська сбегал за ножом, отрезал ломтик... тончайший... как пергаментный лист из сказки о Шехерезаде... Аккуратно завернул сало в тряпочку и положил на место. Потом пошел на кухню, разыскал чесноку, натер им свиную корочку и, отхватив большой кусок хлеба, откусил малюсенький кусочек сала... Что такое счастье?
Леська углубился в книгу и не заметил, как съел и сало, и хлеб. Он читал первый том «Капитала» и приходил в детский восторг прежде всего от Марксова юмора в сносках.
«Явное влияние Гейне, — думал он. — Тот же полемический блеск, то же едкое остроумие... Так смеются боги».
Сначала Леська вообще весь том прочитал в сносках. Но юмор юмором, а за последний месяц Бредихин ушел уже довольно далеко и теперь постигал одну из самых важных глав — главу о прибавочной стоимости.
Он услышал за дверью возбужденные голоса.
— Нет, ты обязан это напечатать, будь ты проклят!
— Не могу, Васильич. Ну, понимаешь: не мо-гу!
— Можешь! Должен! Обязан!
Леська выглянул в коридор.
— А! Елисей! Вы дома? Пожалуйте к нам. Знакомьтесь.
— Трецек.
— Бредихин.
Трецек, маленький человечек, жилистый, горбатенький, с волосами, крашенными до фиолетовой радуги, смотрел на Леську печальными глазами.
— Елисей! Вы только подумайте: этот мерзавец отказывается напечатать в своей грязной газетенке замечательное мое стихотворение.
Несмотря на весь свой гнев, Аким Васильевич бранился так беззлобно, что на него нельзя было сердиться.
— Называется
Урок мудростиМожно делать дело с подлецом.
Никогда подлец не обморочит,
Если только знать, чего он хочет,
И всегда стоять к нему лицом.
Можно дело делать с дураком.
Он встречается в различных видах,
Но поставь его средь башковитых,
Дурачок не прыгнет кувырком.
Если даже мальчиком безусым
Это правило соблюдено,
Ни о чем не беспокойся, но —
Никогда не связывайся с трусом.
Трус бывает тонок и умен,
Совестлив и щепетильно честен,
Но едва блеснет опасность — он
И подлец и дурачина вместе.
— Прекрасное стихотворение! — сказал Леська.
— Вот видишь, обезьяна, видишь?
— Господин студент! Если я это напечатаю, меня вызовут к полковнику из контрразведки и будут орать на меня и топать ногами.
— Пусть орут, пусть топают! — упрямо восклицал поэт.
— Еще и оштрафуют!
— И правильно! Стихотворение стоит того.
— Простите! — вмешался Елисей. — А что в этой вещице такого, что может вызвать гнев контрразведочного полковника?
— Как что? А «подлецы», «дураки» и «трусы»? Ведь белогвардейщина все переводит на себя.
— Врешь, негодяй! Полковник даже не обратит внимания на эти строчки.
— А доносы?
— Все равно. Он достаточно умен, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло. Да и на самом деле: я ведь действительно не думаю, что мое стихотворение относится ко всем белогвардейцам. Разве Пуришкевич — дурак? Разве Булгаков подлец? А Деникин — трус? Ты! Ты — трус, подлец и дурак. И к тому же зол, как скорпион. Вы знаете, Елисей, я написал на него эпиграмму:
Не под булавкой он пока.
Он ядом жжет со всех трибун.
Эн Эн похож на паука
Не потому, что он горбун.
О, как я вас ненавижу,горбуны духа! Это вы затыкаете нам рот кляпом. Это вы — душители культуры. Именно вы, вы, а не полковник. Тот боится революции — и только, а вас пугает даже самая маленькая вспышка таланта.
— Сумасшедший, — спокойно сказал Трецек. — Он не знает этих людей. Сейчас они могут сделать вид, будто не заметили его стихов. Но потом придерутся к какой-нибудь запятой и сдерут с меня шкуру.
— Ну и что?!
— Он еще спрашивает. Сумасшедший!
— Я требую от тебя подвига! Слышишь, Трецек ты этакий. Подвига! В твоих руках печать. Ты могучий человек. Ты можешь бороться.
— Я? Бороться?
— Неужели ты издаешь газету только для того, чтобы ежедневно жрать в харчевне котлеты де-воляй? Ничтожество ты после этого. Тьфу!
Беспрозванный забегал по коридору туда и обратно так быстро, что у него тряслись щеки. Он выбежал в прихожую, чтобы не разрыдаться.
— Ну, что же мы будем стоять в коридоре? — растерянно сказал Леська. — Прошу ко мне.
Трецек вошел.
— Как вам нравится этот огромный ребенок? — спросил он, вздохнув.
— Да, но устами детей глаголет бог.
— Бога нет, и слава богу, — устало сказал Трецек.
Они помолчали.
— Скажите, господин Трецек... Я очень нуждаюсь в работе. Не могу ли я быть репортером в вашей газете?
— Почему же нет? Можете. По в штат я вас не возьму. Мне это не по карману. Сколько заработаете — все ваше.
— Согласен. Когда можно приступить?
— Да хоть завтра.
Утром, дождавшись ухода прапорщика, Леська на цыпочках опять проник в его комнату и снова отрезал тонюсенький ломтик сала. Это было его пищей на весь день.
Сначала сбегал в университет узнать, не будет ли сегодня чего-нибудь из ряда вон выходящего. Он посещал только те лекции, которые находил интересными: неинтересные можно и в книге прочитать.
За дверью слышался женский голос удивительной свежести. Елисей приоткрыл дверь и приник ухом к щелке:
— Итак, дорогие коллеги, даю вам неделю на реферат «Суд присяжных». Поступлю с вами, как в гимназии: возьму рефераты с собой. Лучшие будут зачитаны на семинаре. Вы свободны, господа!
* * *Голоса мужчин можно передать контрабасом и виолончелью, детские голоса хорошо ложатся на скрипку, но женский не имеет подобия в оркестре. Правда, Вагнер в «Тангейзере» отдал голос Венеры кларнету, но этим он только огрубил богиню: женский голос неповторим. Тем более этот, такой прозрачный, как стеклянный ключ в ложбинке.
Леська отпрянул: дверь широко растворилась, и в сопровождении группы студентов вышла золото-рыжая женщина с длинными бровями и едва намечающимся вторым подбородком. Она? Неужели она?
Елисей бросился к расписанию. Нашел предмет: «Семинар по уголовному процессу». Дальше шли дни, часы и фамилия: «приват-доцент Карсавина Алла Ярославна».
Леська затосковал так, что даже забыл о голоде. Но все же спустился вниз с толпою студентов: ведь нужно было идти в редакцию «Крымской почты».
Внизу, у самого входа, стоял человек с длинными волосами и усиками, подвинченными кверху. Он был похож на низенького Петра I и узенького Маркова II. Острым взглядом оценивал он студентов одного за другим и вдруг подошел к Елисею.
— Художник Смирнов! — крикнул он так запальчиво, точно вызывал на дуэль.
— Студент Бредихин.
— Мне нужен натурщик.
— К вашим услугам.
— Вы когда-нибудь позировали?
— Ого! Сколько раз!
— Отлично. В таком случае приходите сегодня в три. Сможете? Пушкинская, двенадцать, студия Смирнова.
— Аванса не прошу, но хотел бы для начала позавтракать, иначе, пожалуй, не выдержу, сказал Леська.