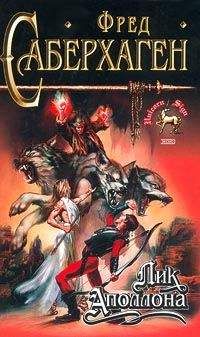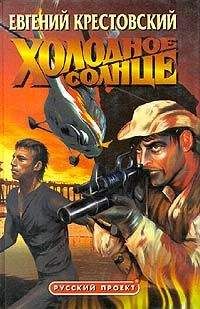Евгений Анташкевич - Харбин. Книга 1. Путь
Посильно поспешают во славу командных высот и прочие кооперативы:
Не давай купцам наживы:
Покупай в кооперативе!..»
Анна смеялась почти в голос.
– Сильно, да? – каждый раз спрашивал её Александр Петрович, и каждый раз она кивала.
Она перестала смеяться и разглаживала щеки.
– А я и не думала, что в этих очерках может быть что-то с юмором, – сказала она и бесцельно переложила на салфетке приборы. – Ты сказал, что прочитал её несколько раз, а что же там интересного для тебя? Ну, кроме того, что смешно или про Москву?
Александр Петрович тоже перестал смеяться, его лицо сделалось задумчивым, он подпер кулаками подбородок и несколько секунд молчал.
– Тебе это может показаться странным, а может быть, и нет…
Анна склонила голову набок и с любопытством смотрела на него.
– …То, что он пишет про политику и отношения между людьми, я себе примерно так и представлял, но… город! Мне казалось, что город, хотя он и пишет про выщербины от пуль в стенах, должен быть менее живой, и больше разрушен, и… пустой! А оказывается, нет – шумный, многолюдный, даже весёлый! И романтичный – закаты на Страстной! Я помню Москву в восемнадцатом: зимой холодная, летом грязная и опасная для всех… А теперь послушай, как он описывает: «…Плоть у Москвы, как у некоей лермонтовской героини, право же, не менее духовна, чем душа…» – Александр Петрович говорил текст, как декламируют стихи: – «…Теплом веет там отовсюду, родным теплом домашнего очага. Хороши уютные летние вечера у старого Пушкина, когда кругом гудящая толпа, мальчишки продают левкои и розы, загораются красные огоньки и голубые искры трамваев, а напротив – привычный милый силуэт Страстного монастыря… Хороши ранние летние рассветы, когда тихо на улицах и бульварах, бледны лица утреннею бледностью, редки извозчики и прохожие, словно выточены недвижные листья деревьев Пречистенского бульвара, веет бодрящей прохладою, и светлеет, встречая первые солнечные лучи, купол золотого Храма… Хороши и деловые московские дни: и в них – дыхание домашнего очага…» Хорошо, правда?
Анна кивнула:
– Это всё Москва?
– Да, но и не только… – тихо ответил Александр Петрович.
– А ты сам какой помнишь Москву?
Он улыбнулся:
– Я её помню с первого дня – когда мы приехали, мне было четыре года, и был февраль и, как ни странно, – оттепель. Москва встретила нас ржавым снегом, это когда с песком и вперемешку с конским навозом… Извини, не к столу…
– Ничего, из песни слова не выкинешь!
Он благодарно кивнул:
– …ещё солнцем… таким неожиданным в феврале, что глаза слепило, потому что всё это было очень контрастным фоном с чёрными мокрыми стволами деревьев на бульварах. Помню, после тихой Митавы меня оглушил грохот мостовых, я такого грохота до этого не слыхал даже в поезде. – Александр Петрович смотрел на жену, она сидела, откинувшись на спинку высокого мягкого стула, и внимательно слушала его, и это его вдохновляло. – В памяти осталось много картинок. Иногда они связаны между собой, иногда нет. Не могу точно вспомнить, когда это было, помню яркие свежие листья на низких кустах и больших деревьях, помню, они были ещё липкие и блестели. Это был солнечный день, мы гуляли с няней, я уже потом нашёл это место, у Никитских ворот. Гагаринский дом, который упоминает Николай Васильевич, тогда ещё стоял. Няня завела меня в мануфактурную лавку и стала что-то выбирать, наверное себе на летнее платье. Она отпустила мою руку, и ко мне тут же подбежала девушка-работница, она показалась мне такой высокой, с длинной пышной косой цвета спелой пшеницы и в такого же цвета платье, и подвела меня к большой плетёной корзине, в ней было много разных цветных лоскутков, наверное, она думала, что мальчикам это так же интересно, как девочкам… С тех пор Москва у меня как весенняя девушка, свежая, светлая и разноцветная, или как зимняя старуха с жёлтым лицом, с густыми, насурьмлёнными бровями и красными тонкими губами в жирной помаде, сейчас так выглядят старые аристократки, наши, эмигрантские…
– У нас в Петербурге была концертмейстерша, – такая Grand dame, тоже всегда губки красила, они у неё уже сморщились, а она их красила и щёки румянила. Почему-то это было так страшно…
Александр Петрович улыбнулся схожести их восприятия.
– А ещё Москва мне вспоминается непрерывными потоками людей, – он наклонился к Анне и говорил тихим грудным голосом, – которые когда они шли по тротуарам, то были похожи на шатуны паровозных колёс: навстречу друг другу одновременно и в густом белом пару.
К их столу подошёл официант, показал Александру Петровичу бутылку и подал маленький специальный ножичек, на который была наколота пробка; Александр Петрович понюхал её и согласно кивнул; официант налил вино в бокалы и молча поклонился.
Анна пригубила:
– А помнишь, ты как-то рассказывал мне про пару, которую ты встретил у Большого театра?..
– Когда?
– Ты рассказывал, что это было в первых числах марта?..
– 3 марта восемнадцатого года! – подтвердил Александр Петрович. – Я удивлён, что ты это помнишь!
Анна мягко улыбнулась, не отрывая от него взгляда.
– Да, я шёл сначала у них за спиной, потом обогнал и ненароком подслушал разговор, только их было две пары: две молодые дамы, я потом оглянулся, и, хотя было уже темно, мне показалось, что это были сестры, и двое, судя по выправке, наших офицеров.
Анна внимательно слушала.
– Потом я узнал, что в тот вечер Кржижановский, это один из их больших начальников, представлял московской публике план электрификации России, представляешь? Это в восемнадцатом-то году, когда тьма горя и разрухи была кромешная, вспомни строчки о Москве того времени из очерков Николая Васильевича! – сказал Александр Петрович и указал пальцем в сторону их купе. – А эти четверо, видимо люди нашего круга, шли и оживлённо обсуждали этот прожект. Я об этом скоро забыл! А потом, сам не знаю почему, вспомнил, и ты помнишь!
Анна кивнула.
– Ни ты, ни я не знаем, кто эти люди и что получилось из того плана, однако Устрялов приехал явно не из тьмы. Значит, что-то там произошло и происходит… Поэтому я думаю, что мы – каждый из нас – вольны выражать свои чувства по-своему…
– Да, Саша, теперь я думаю, что я тебя поняла, извини мне мою…
В этот момент к столу снова подошёл официант, он поставил на приставной столик поднос и стал переносить с него и расставлять перед Анной и Александром Петровичем соусники и блюда.
– Когда прикажете десерт?
Александр Петрович посмотрел на Анну, та неопределённо пожала плечами.
– Несите! – сказал Александр Петрович.
Официант сделал два шага к барной стойке, потом вернулся и шёпотом сказал Александру Петровичу, скрытно, из-под живота, показывая скрюченным пальцем в сторону человека в свободной спортивной рубашке:
– Советы! – Он поджал губы и многозначительно свёл на переносице брови.
Глава 3
Было уже около одиннадцати часов ночи; поезд, не сбавляя скорости, шёл между поросшими чёрной тайгой сопками; над ними, мелькавшими за окном, слабыми усилиями мерцал закат; мимо пролетали маленькие станции, которые на полсекунды вспыхивали и успевали заглянуть в купе яркими огнями.
Анна спала, она легла головой к двери и подоткнула ноги под колени Александру Петровичу, от этого ему было уютно, вот так сидеть у окна под лампой и листать книгу, но уже хотелось лечь, чтобы отдохнуть после суеты города, обустройства на даче и Анниных волнений. Он тоже переживал за сына, однако старался этого не показывать, они оба понимали, что их мальчик растёт, и куда было от этого деться? В конечном счёте всё происходило так, как и должно было происходить, и разве тут можно обойтись без волнений?
Он сидел и боялся пошевелиться, и не мог решиться, оставаться пока здесь на нижней полке или забраться на свою верхнюю, – он боялся, что свет ночника и его шевеления разбудят её.
Александр Петрович уже понял, что ещё долго не заснёт, потому что голова была полна мыслями и, чтобы заснуть, надо было лечь и что-то почитать. Он выключил ночник, глаза привыкали к темноте, в это время поезд проскочил мимо разъезда, и фонарь на секунду осветил купе.
– Ты ещё не спишь? – услышал он.
«Ч-чёрт! Разбудил всё-таки!» – подумал Александр Петрович.
– Спи, Анни, спи! Я уже ложусь!
– Иди ко мне, – позвала она.
Александр Петрович присел, она обняла его обеими руками за шею и поцеловала, её дыхание было тёплым и глубоким, а губы сухими.
– Спи, моя милая, спи, – прошептал Александр Петрович, не отрывая от неё своих губ.
– Спокойной ночи, Саша, – прошептала Анна, и Александр Петрович увидел, как она пристально смотрит на него – глаза в глаза.
– Спокойной ночи!
Когда он приставлял лестницу к верхней полке, за окном снова мелькнул одинокий фонарь, и он увидел, что Анна повернулась на бок лицом к стене и подоткнула ладошку себе под щёку.