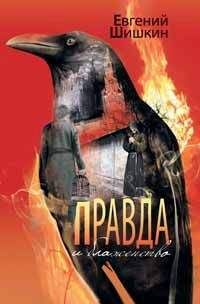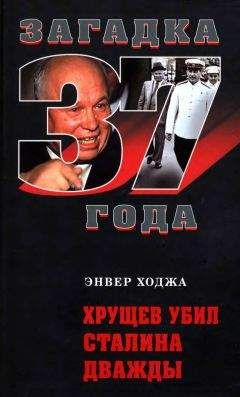Рожденные на улице Мопра - Шишкин Евгений Васильевич
Стая ворон сидела на высоких тополях. Окострыженные — казалось, им зябко. Здесь, под Ленинградом, и пять градусов мороза с морской сыростью продирали насквозь…
Казарма — большая, многооконная, тесно обставленная двухъярусными железными койками. Койки туго застелены синими одеялами; между коек втиснуты в узкие проходы тумбочки, у изножий — табуретки. Все расставлено в ряды безукоризненно ровные.
— Подушки-то как лежат!
— По нитке, говорят, ровняют.
— А то! Всё по нитке да по линейке.
Прямизна и ровность доводились здесь до идолопоклонства. Алексей приметил, что даже кучки снега, которые лежали на газоне у казармы, обточены «под гробик».
Новобранцам было велено разместиться прямо на дощатом малиновом полу, натертом мастикой до лоску.
— Не вздумайте курить! Кто хочет в уборную — ходить только по трое!
Уборная поражала чистотой и начищенностью: отблескивал настенный кафель, эмаль раковин, медь кранов. В натертых никеляшках сантехники Алексей с удивлением увидел свою удлиненную, обстриженную наголо башку…
Вскоре в казарму шумно, с топотом, с хохотом явились трое сержантов. Ими предводительствовал толстощекий, толстозадый, с низко опущенным, незатянутым ремнем, в ухарски посаженной на затылок шапке старшина-срочник Остапчук. Говорил он начальственно и складно:
— Встать! Построились!.. Подравнялись! Слухать сюда!.. — Он ходил перед шеренгой, ценя свою власть. — Ножи, карты, спиртные напитки, съестное, всевозможные таблетки, лекарства, гондоны — все сдать подчистую! При себе оставить: умывальные принадлежности, письменные принадлежности, табачные изделия и деньги. Вопросы есть?
— Нитки можно оставить?
— Нитки, иголки — можно.
— А гондоны-то разве тоже привозят?
Старшина Остапчук с довольством осклабил сытую щекастую физиономию:
— Вчера у одного мудака я реквизировал полсотни штук. Спрашиваю: «Зачем привез?» Он говорит: «Думал, тут бабы будут. Остерегаться от венерических болезней». — Старшина как-то по-детски пискливо хихикнул и сразу перешел на деловой тон: — Баб тут никаких не будет! Запомните! А они, — он кивнул на сержантов, — и без гондонов отлично вас будут дрючить.
Сержанты заржали как лошади. Они тоже стали расхаживать в щегольски начищенных сапогах вдоль неровного новобранского строя. Расспрашивали, кто откуда.
— Ты?
— С Красноярского края.
— Ты?
— Из Вятска.
— А-а, вятские-хватские, семеро одного не боятся.
— Ты?
— С Урала. Пермская область.
— Ты?
— Черновцы.
— Хохол, значит? Свой парень, бачу.
— А ты, ара?
— Я не ара. Я грек из Кишинева.
— Ты?
— Костромская область.
— А тебе как фамилия?
— Раппопорт.
— Еврей? Откуда?
— Из Москвы.
— Как ты сюда попал? Мужики, побачьте: еврей из Москвы! Первый случай за полтора года… Усеки сразу, Раппопорт: где хохол прошел, там еврею ловить нечего.
— Ты?
— Из Перепелкина.
— Это чё, город такой?
— Не-е, деревня.
— Ну ты и чушок! Откуда мне знать деревни?
— Под Харьковом она.
— Где? Под Харьковом? О! Ты, оказывается, зёма!
Сержанты учебного полка были в основном украинцы. Тут четко срабатывал принцип: «Хохол без лычки — не хохол».
Старшина Остапчук пижонисто крутанулся на подвысоченных каблуках сапог, еще сильнее сдвинул на затылок шапку, которая и так держалась каким-то чудом на затылке, и громко объявил:
— Манатки оставить пока здесь! Под надзор дневального! — Он обежал быстрым взглядом казарму и вдруг озверело рявкнул: — Дневальный! Где дневальный, сука такая?
Через считанные секунды в узком проходе, между рядами коек промелькнул высокий, худой как тростина, перепуганный ратник в бледно-зеленой гимнастерке, сидевшей на нем горбом, перетянутый ремнем так, что казалось, не вздохнуть на все легкие, с болтающимся возле ширинки штык-ножом. Грохая сапожищами, он подбежал к Остапчуку, потоптался перед ним, выполняя строевые па, стал докладывать, криво держа руку у виска.
«Неужели, — с легким ужасом подумал Алексей, — я буду так же бегать на окрик этого широкомордого хохла? И стоять перед ним по струнке?»
— Сейчас — на вещевой склад за обмундированием. Опосля — в баню! — скомандовал Остапчук. — Обух, уводи пополнение!
Старший сержант Обух был мал росту, кривоног; такие сержанты все отчего-то в Советской Армии были кривоноги, их будто бы в младенчестве катали на бревне, так что ноги раскорячивались в коленях. Лицо у него было ужимистое, деревенское, грубоватое; глотка луженая. По нраву Обух был честен, трудолюбив. Службист. В армии подал заявление в члены партии.
— Выходи строиться в колонну по три! — выкрикнул Обух. — Отставить! Выходи — это не значит пешком. Это значит — бегом! Бе-его-ом а-арш!
Здешняя баня, равно как вещевой склад с усатым, недостаточно похмеленным прапорщиком, оказалась с особинкой. Без тазиков, несколько рядов душевых, где сверху прыскала холодная вода. Лишь в нескольких отсеках из поржавелых ситечек мочили тепленькие струйки. Пополнение, группки голых синеватых парней, потолкалось возле тепленьких сикалок.
— Я в журнале «Знание — сила» читал: один мужик год не мылся и ничего, не умер, — утешил всех парень с прыщавым подбородком. — Кожа человечья сама по себе способна очищаться без воды и мыла.
— А еще можно рожу потереть снегом на морозе, она быстро отчистится, — подсказал умнику Алексей Ворончихин. Но в общем-то парень с прыщавым подбородком ему понравился — Иван Курочкин, сибиряк, познакомились.
Полуобмытые новобранцы оболоклись в новое обмундирование, пока еще неказистое: без погон, петлиц, нарукавных эмблем, тщательно обувались в новые кирзовые сапоги с портянками. Для многих портянки не в диковинку: больше половины призыва — из сельской местности. Для Алексея Ворончихина портянки — чистая морока. В какие-то моменты Алексей оглядывал себя, переодетого в солдатскую форму, в сапогах, в сизой шапке, и сам на себя дивился: «Куда меня занесло-то! А ведь мог бы Алку Мараховскую обнимать…»
— Ничего, Ваня, — кивал он Ивану Курочкину. — При Петре Первом служили двадцать пять лет.
Обух привел новобранцев в казарму, тут же резанул по барабанным перепонкам:
— Через две минуты построение на плацу! Форма одежды номер «два»!
— Это как? Без шинелей, что ли?
— Што ли! Ты в армии, а не с бабой на печке!
О питерской погоде писано много поэтических и нерифмованных строк, воспевающих и негодующих на нее. Одно дело — белые летние ночи, когда теплый призрачный сумрак кутает благолепный град, и по набережным возле элегически-задумчивой Невы хочется бродить с тонкой русой девушкой и украдкой поглядывать на ее одухотворенный профиль… Другое дело — гнилостная осень, ветреный стылый ноябрь. Алексей в толпе новобранцев, после обмочки в бане, только в гимнастерке ХБ, под которой нательная рубаха, выскочил на огромный продуваемый плац. Старший сержант Обух проорал, грозясь:
— Руки из карманов вон! Хватит в бильярд играть! Всем прикажу карманы зашить!
К вечеру холод укрепился: схватилась земля, остекленели лужи. Ветер, получая на просторном плацу ускорение, казалось, не облегал тела новобранцев, а сквозил меж ребер, леденил остриженные затылки.
— Разобрались в одну шеренгу! — скомандовал Обух. — По рос-ту!
Другие сержанты, долговязый, с маленькой головой и тонким горбатым носом Мирошниченко, коротенький, черноглазый, с замашками уличного уркагана Тимченко, с бугристым, оспяным лицом и ехидно-желтыми глазами Нестеркин прохаживались вдоль ломкой, путающейся в построении шеренги, зубоскалили.
— Ну шо ты мэчэшься? Разве не бачишь, хто из вас хороче?
— Шо задергался, як проститутка? Стань туточки и стый!
— Ты в штаны наклал? Да? Не-е-е. Тогда распрямись!
— А ты куда прешь? Во твое место! Ну все понимаешь, а на горшок не просишься!
— Хдэ сапоги завозил? Чтоб потом нагуталинил до поросячьего визгу!
— Самый хитрый, что ли? Я тебя, тебя спрашиваю! Чего руки в карманы засунул? Запомни! На всякую хитрую жопу найдется хрен с винтом!