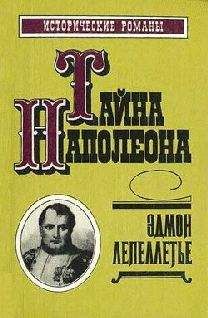Луис Пинедо - Испанская новелла Золотого века
Верно говорил Фабио, ибо, хотя и правда, что, убедившись в основательности ревнивых подозрений, позорно продолжать любить, чему множество примеров приводят Плиний и Аристотель, говоря о животных, все же есть люди, которые не могут полюбить, прежде чем их не оскорбили, и то, что у других вызывает отвращение, только разжигает их страсть. Об этом и пел пастух своей горянке, которая слушала его одновременно высокомерно и с удовольствием.
Когда песня окончилась, они подошли к тем самым деревьям, между которыми лежала почти без чувств Диана, лихорадочно перебиравшая в уме все свои несчастья: то она обвиняла Селио, то ей казалось невозможным, чтобы такой благородный, знатный, разумный и любезный кабальеро забыл о своем долге, то она винила во всем свою стремительную любовь, которая так необдуманно пошла ему навстречу; и среди всех этих сомнений ее больше всего мучила мысль о том, что, быть может, Селио к ней охладел, потому что, когда она думала о том, что он ее по-прежнему любит, она забывала о тяжести своих страданий, которые в такие минуты и не казались ей больше страданиями. А можно ли вообразить большие страдания для женщины благородного происхождения, которая в полном одиночестве прошла долгий путь по скалистой дороге, почти не имея пищи и лишенная надежды найти венец своей любви раньше, чем конец своей жизни.
Пастухи были изумлены, увидев среди ветвей такую дивную красавицу, лежавшую без чувств, совсем разутую и находящуюся скорее во власти смерти, чем глубокого сна. Пастушка окликнула ее два или три раза и, убедившись, что она не отвечает, села рядом с ней, решив, что она мертва или что жить ей осталось совсем немного. Она взяла ее руки, холодные, белые и во всем подобные снегу, заглянула ей в лицо и, увидев без чувств такую красавицу, положила ее голову себе на колени, отвела в сторону ее волосы, беспорядочно струившиеся по ее лицу и шее; уже не было того, кто их связывал и заплетал, и глаза ее посылали укор тому, кого они некогда взяли в плен. Но так как голова Дианы клонилась из стороны в сторону, то пастушка, решив, что она мертва, начала нежно и жалобно плакать. Отчаяние пастушки и горе крестьянина, умевшего нежно чувствовать, пробудили Диану и, хотя она не подала надежды, что будет жить, все же успокоила их своими стонами; на глазах ее показались слезы, за которыми последовал такой горестный вздох, что она, положив руку на свое сердце — так оно у нее сжималось, — снова лишилась чувств. Тогда прекрасная Филида, применив обычное средство, решила расшнуровать ее, чтобы дать сердцу больше простора, а пастух тем временем принес из родника воды, капли которой засверкали на ее лице, словно слезы или жемчужины, но все же по сравнению с истинными жемчужинами, струившимися из ее ясных глаз, они казались поддельными.
Диана поблагодарила их, а когда они спросили о причине такого ее состояния, она ответила, что уже три дня бредет одиноко, без всякой пищи. Тогда Филида раскрыла свою котомку — я думаю, ваша милость знает из пастушеских романов о том, что крестьяне обычно носят с собой котомки, — и, вняв ее просьбам, Диана заставила себя поесть, и, когда она слегка подкрепила свои силы, ее ослабевшее тело почувствовало облегчение. Пока Диана ела, Филида расспрашивала ее, кто она такая, откуда идет и как могло случиться, что волки, которые спускались с гор и шли за стадами вплоть до Эстремадуры, не напали на нее в одну из этих ночей. Диана ответила, что, наверное, даже дикие звери избегали ее, как отравы, и, боясь за свою жизнь, не лишали жизни ее. Филида, видя ужасное состояние духа Дианы, желавшей, чтобы в этом лесу окончилась ее жизнь, уговорила ее пойти вместе с нею на хутор, принадлежавший ее отцу; она убеждала ее так горячо и с такой любовью, что Диана, обезоруженная ее приветливостью и чистосердечием, решила, что так будет лучше для того, кого она носила под сердцем и к кому она относилась с естественной заботливостью, хоть и ненавидела свою жизнь. Она пошла вместе с пастухами и была хорошо принята, и хотя скачала старый Сельвахио[79], отец Филиды, столь же неотесанный, как его имя, без особого удовольствия принял ее в свой дом, но потом, тронутый ее красотою и скромностью, а также любовью к ней дочери, почувствовал жалость и проявил некоторое радушие.
Между тем Селио, выехав из славного Толедо, не зная никакой дороги, кроме той, по которой его вела любовь, огласил своими жалобами первый же лесок; и, повторяя себе, что это из-за него Диана покинула свой дом, мать, брата, родных, подруг, покой и родину, он среди мук, которые испытывал, и на счастье себе и на горе, едва не расстался с жизнью. Целых шесть дней он не заезжал ни в одну деревню, и лошади должны были расплачиваться за его печаль, ибо кормились одними полевыми травами.
Наконец Фенисо увидел вдали селение, почти скрытое от глаза деревьями, над которыми возвышались две башни, отражавшие своими изразцами игру солнечных лучей. Он уговорил Селио заехать в это селение, и, прибыв туда, они стали расспрашивать, не найдется ли здесь кто-нибудь, кто мог бы им сообщить какие-либо сведения о его потерянном сокровище. Но ни в этом селении, ни во многих других на расстоянии десяти или даже двадцати миль от Толедо, которые они исколесили за месяц, им не удалось найти никаких следов. Тогда ему пришло в голову, что, раз Диана уговорилась ехать с ним в Индии, то она, наверное, нашла человека, который довез ее до Севильи. И вот, надеясь найти ее там, а также желая уехать подальше от родных мест, он решил убедиться, нет ли ее в этом славном городе. Голод и ночи, проведенные под открытым небом, настолько изменили внешность Селио, что он мог бы вернуться в Толедо, не боясь быть узнанным. Прибыв в Севилью, он произвел столько розысков, сколько можно было ожидать от столь нежно влюбленного и столь верного своим обязанностям человека. Но как ни сильно был он огорчен тем» что не нашел там Дианы и не встретил ни одного человека, который сообщил бы ему о ней какие-нибудь, пусть даже ложные сведения, еще больше он был опечален тем, что индийская флотилия уже отплыла, ибо, хорошо зная силу любви, храбрость и мужество Дианы, Селио решил, что она, наверное, отплыла с нею.
Судьбе его было угодно, чтобы в порту оставался еще один корабль, зафрахтованный каким-то купцом. Он должен был выйти в море не ранее, чем через десять или двенадцать дней. Селио поговорил с этим купцом, и они условились, что тот доставит его в Индии. Владелец корабля согласился на это, и между ним и Селио установились дружеские отношения. Несколько раз они обедали вместе, и судовладелец спрашивал его в подходящих случаях о причине его печали; однако Селио каждый раз уклонялся от ответа, говоря, что не хочет рассказывать об этих грустных вещах, чтобы воспоминания о них не усилили его скорбь. Настал день отъезда; пользуясь попутным ветром, корабль отчалил и, оставляя за собой легкий след, устремился в открытое море; и чем больше казалось Селио, что он приближается к Диане, тем больше он от нее отдалялся, И все же надежда на счастье, пусть даже обманчивая, никогда не причиняет человеку зла, потому что она облегчает жизнь.
Тем временем Октавио в Толедо не мог ни на час забыть о нанесенной ему обиде, и скорбь его еще увеличилась, потому что ни от кого из тех, кто разыскивал Диану, будь то родственники или друзья, он не узнал ничего нового, что могло бы зародить в нем хотя бы самую слабую надежду. Видя, что Селио не возвращается, он вообразил, что они сговорились с Дианой о том, что она уедет первая, а он последует за ней под предлогом, что ее разыскивает; но он отбросил эту мысль, когда до него дошел распространившийся по городу слух, будто какие-то люди видели, как Селио, в сопровождении только Фенисо, с большим старанием искал Диану в окрестных деревнях. Октавио успокоился — отчасти по этой причине, отчасти потому, что мать старалась разубедить его в этом, боясь, что, если Октавио укрепится в своем предположении, она может потерять обоих своих детей.
Два месяца провела Диана в доме почтенных поселян, нежно опекаемая Филидой; и вот наступило время родов, которые дали ей красивого сына. Теперь она не могла бы жаловаться, как жаловалась у Вергилия покинутая Энеем Дидона:
Если б мне дарован был
Маленький Эней судьбою.
Прежде чем меня с тобою
Гнев небес не разлучил.
Рос бы он в моем дворце
И, любуясь им всечасно,
Я не стала бы напрасно
Плакать о его отце[80].
Правда, по-иному говорит об этом Овидий в своем послании:
Часть себя, неблагодарный,
В лоно ты мое вложил,
И ее приговорил
Ныне к смерти рок коварный,
Раз Дидону ждет кончина
Из-за низости твоей.
Знай, что ты убил, Эней,
Своего родного сына[81].
Мне думается, однако, что искусство, в котором так прославился Овидий, заставило Дидону притвориться, будто она ждет ребенка от Энея, дабы заставить его вернуться к ней; впрочем, женщины разыгрывают не только беременность, но даже и роды.