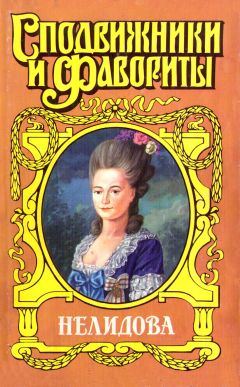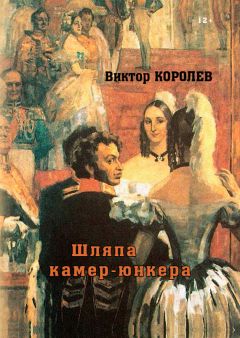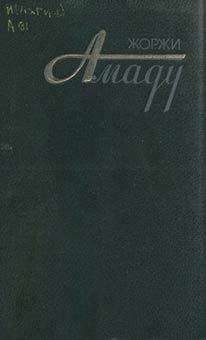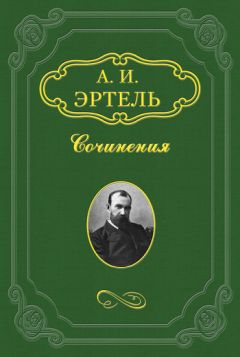Алла Панова - Миг власти московского князя
Ульяна промолчала.
— Так ты поговоришь с Марьей? — спросила старуха. — Убивается девка. Совсем высохнет от тоски, так и приданое не понадобится.
— Говорила я с ней не единожды. Она все свое твердит, — устало ответила Ульяна, присев на краешек лавки. — Вчера уж затемно прибежала от Анютки, радовалась чему‑то и утром порхала, словно воробышек, а с торга вернулась совсем не своя. Ильюшка говорил, медведя они там смотрели, смеялись, радовались, князя увидеть довелось. Вот мечется, как зверек, не говорит ничего. Сама ж ты видала, как она выскочила из горницы. Теперича ревет белугой в сенях или где еще укрылась. Что ж мне, все дела бросить да слезы ей утирать?
— Ой, и не знаю, что с ней делать, — проговорила старуха. — Не пойму я, то ли она так из‑за Анюткиной свадьбы убивается — все ж таки подружки с малолетства. А вдруг приглянулся ей кто, да не складывается у них что‑то, а нам разве такое скажешь?
— Может, вы, мама, и правы. Я и то думаю, что из-за Нютки она бы так не убивалась. Чует мое сердце, что не в этом дело, — проговорила Ульяна задумчиво. — Только женихов‑то видных в посаде не густо, все уж небось разобраны. Поди, нашей‑то никого и не осталось.
— Ой, Ульянка, дивлюсь я на тебя! — усмехнулась Лукерья. — Я за печкой сижу и то знаю, что в Москве творится. Неужто забыла, что нынче у нас женихов хоть отбавляй — цельная княжья дружина! Все больше молодые да неженатые. Один другого краше.
— Так они где и где она! — удивилась дочь, все еще не понимая, как сама не догадалась об этом.
— По–твоему они на привязи сидят? Вон и на торг, Юшко говорил, часто захаживают. А ты ее сама туда к отцу шлешь. Может статься, там кого углядела. А намедни аж мимо наших ворот цельная сотня шла. Сам князь, Михаил Ярославич, вел.
— Да–да, я видала, — кивнула Ульяна.
— Поговори‑ка с ней, невзначай о дружинниках княжьих скажи да посмотри, может, побледнеет али краской лицо ейное зальется, тогда уж хоть ясно станет, откуда беды ждать. Всему‑то тебя учить надо, — буркнула старуха.
— А почему ж беды? — спросила ее взрослая дочь. — Сватов тогда ждать будем.
— Это кому как: кому — сваты, а кому — беда, — ответила Лукерья каким‑то тихим, грустным голосом, посмотрела на дочь, лицо которой, еще так недавно гладкое и пригожее, изрезали ранние морщины, вздохнула и молча ушла в свой закуток.
Тем временем Марья, все еще тихонько всхлипывая и прикрывая распухшее от слез лицо платком, перебралась на задний двор и спряталась от любопытных глаз на сеновале, где никто не будет приставать к ней с назойливыми расспросами. Зарывшись в колкое сено, она вдыхала запахи трав и мало–помалу успокоилась. Девушка легла на спину, вытерла лицо платком, с удивлением обнаружив, что большая часть его стала влажной от слез, чуть снова не разрыдалась. Набрав полную грудь воздуха, словно перед погружением в воду и уже чувствуя, как слезы выступают на глазах, она вдруг ощутила, что кто‑то мягкий и теплый трется о ее ногу. Мария приоткрыла глаза, приподнялась на локтях и, хорошенько приглядевшись, увидела рядом с собой рыжего котенка, который безуспешно пытался выбраться из ямки, образовавшейся в слежавшемся сене.
— Ой, какой маленький! — воскликнула она. — Что ж ты от мамки убежал, проказник! Иди‑ка сюда!
Девушка огляделась по сторонам, пытаясь определить, где могла бы находиться недавно окотившаяся Ряба, но на сеновале, куда свет проникал через маленькое волоковое оконце, было уже слишком темно. Мария позвала кошку, получившую свое странное прозвище из‑за пятнистого разноцветного окраса, но та не откликнулась, и девушка, дотянувшись до крошечного котенка, взяла его на руки, нежно прижала к груди. Он заурчал тихонько, и она впервые за долгое время улыбнулась.
«Может, завтра свидимся, — подумала Мария и снова улыбнулась. — Жаль, что нынче не удалось. Что я говорю? Как это не удалось! Ведь видала ж я его! И он меня увидел. Улыбнулся даже! А глаза‑то грустные сразу стали. Поди, он и сам тому не рад, что так вышло. Как же иначе, конечно, не рад! Я ж это чувствую. Сердце ведь не обманешь».
Она совсем успокоилась, поглаживала мягкий рыжий комочек, блаженно улыбалась своим мыслям, а потом, уставившись в угол сеновала, будто увидела там своего ненаглядного, прищурилась и с хитрой усмешкой тихонько спросила:
— А куда это вы, Михаил Ярославич, путь держали? Уж не в посад ли? Не к Марье–красе? А? Чтой‑то щеки ваши заалели, никак, угадала я. И чего ж вы до ворот ее не доехали и к детинцу свернули? Спугались чего? Али дела спешные к палатам княжеским вернуться заставили? На первый раз, так и быть, прощу вас, но впредь уж поблажки не ждите! — Она засмеялась, подбросила замяукавшего в испуге котенка и проговорила весело: — Так и знайте: мимо проедете — Гришке конопатому свое сердечко отдам! Что, напугала я вас, Михаил Ярославич? То‑то! Завтра чтоб у моих ворот ваш черный конь как вкопанный стоял!
Она, гордо подняв голову, вытянула руку и показала воображаемому князю, где должен стоять его конь, а потом громко рассмеялась.
В горницу девушка вернулась, когда уже все улеглись спать. Тихонько прошла через темную горницу в закуток, где похрапывала бабушка. Глаза, привыкшие к темноте, различили на крохотном столике под иконами кружку и ломоть хлеба. Мария выпила молоко, с благодарностью подумав о матери. Ульяна хоть и ругала дочь, сердилась на нее, но все‑таки баловала, и когда та, задержавшись у подруг, не успевала к общей трапезе, оставляла ей что‑нибудь из еды. С удовольствием откусив большой кусок от душистой горбушки, Мария чуть не захихикала, вспомнив, как отец сурово предупреждал мать, чтоб на трапезу собиралась вся семья, а кто за стол со всеми не сядет, опоздает, так, мол, пусть голодным остается. Поскольку Илья и бабушка с маленьким Глебом за столом всегда оказывались первыми, говорил он именно для дочери, и взгляд, которым он посмотрел тогда на нее, был очень строг. Мария допила молоко, посмеиваясь про себя над тем, как ловко мать обходит отцовские наставления.
«Вот любопытно, а княгини тоже так делают? Балуют ли чад своих или в строгости держат? Балуют. Верно, балуют! На что ж тогда все няньки да кормилицы? Небось шагу деткам ступить самим не дают, на руках носят, кашу в рот кладут», — думала Мария, засыпая и стараясь представить себя в княжеских покоях, в богатых одеждах, в окружении бессчетного числа мамок, девок, нянек.
14. «…мне заутра к князю грозному во допрос идти»
В глубокой яме, выкопанной вблизи высокой бревенчатой ограды, поднимавшейся неприступной стеной на земляном валу, Кузьма ждал решения свой участи. Он понимал, что не может рассчитывать на снисхождение, но где‑то в глубине души все‑таки надеялся, что князь проявит милость и сохранит ему жизнь.
Он ждал, когда его вызовут для допроса, но проходило время, а Кузьма все сидел в своем жилище, от промерзших земляных стен которого исходил могильный холод, напоминавший узнику о близости его смертного часа.
Ожидание было мучительным. Через плотно сбитые доски в яму не проникал дневной свет, и, если бы не тонкий лучик, пробравшийся в холодный мрак через отверстие, образовавшееся на месте выпавшего сучка, Кузька совсем бы потерял счет времени.
Все случившееся до того момента, как он очутился в яме, казалось ему одним длинным–длинным днем. Он старался не вспоминать то, как плененных ватажников провели через посад, где народ с криками возмущения встретил своих обидчиков. Особо прыткие лезли к ним с кулаками, а другие под одобрительный хохот окружающих кидали в угрюмых Кузькиных сотоварищей комья снега. Правда, находились в толпе и сердобольные, по большей части немолодые бабы. Они с грустью смотрели на замерзших, засыпанных снежной крупкой пленников князя, утирали выступившие на глазах слезы жалости, крестились и осеняли крестным знамением вчерашних страшных татей, теперь казавшихся такими слабыми и жалкими.
Ловя на себе жалостливые бабьи взгляды, Кузька прятал свои полные ненависти глаза. Он не терпел, когда к нему относились с жалостью. На всю жизнь Кузька запомнил, как румяная, пухлая молодка, у которой он провел несколько дней и ночей, утром заплетая косу и поглядывая на парня, развалившегося на печи, сказала с жалостью: «Хоть и молод ты, Кузьма, но не больно силен. Не чета моему Проше. Квелый ты какой‑то».
Равнодушный и одновременно жалостливый голос еще долго стоял в его ушах. Еще долго потом, уже собрав вокруг себя ватагу, он все пытался доказать себе, что зря оговорила его та молодуха, тосковавшая по мужу, ушедшему с дружиной князя. Кузька не пропускал ни одной из оказавшихся в захваченных обозах баб, набрасывался на них со злорадным удовольствием, а потом, с содроганием видя знакомую жалость в испуганных глазах, с отвращением отдавал на расправу своим жадным до утех головорезам.