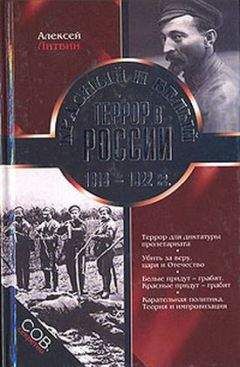Торнтон Уайлдер - Мост короля Людовика Святого. Мартовские иды. День восьмой
Группа заговорщиков, о которых я вам пишу, замышляла убить диктатора в полночь, 6 января, когда он возвращался с выборов членов городской управы. Они собирались устроить ему засаду у моста через речушку возле храма Тебетты и под этим мостом. В тот раз я разослала анонимные письма четырем из заговорщиков и сообщила им, что Цезарь знает об их намерениях. Теперь они собираются напасть на него, когда он 28 января будет возвращаться с игр. Вы понимаете, что было бы неосторожно снова писать заговорщикам, к тому же я обещала моему осведомителю, который входит в их число, что я этого не сделаю.
Я настоятельно прошу, высокочтимая госпожа, поскорее дать мне совет, что делать. Проще всего, как я полагаю, было бы сообщить эти сведения начальнику тайной полиции диктатора. Однако этого я сделать не могу. Я слишком хорошо знаю, как беспомощна эта организация. Она представляет диктатору доклады, где неверные данные прикрывают нерадивость, а личные пристрастия выдаются за факты, где утаиваются важные сведения и раздувается всякая ерунда.
Прошу вашего ответа.
LXVI-А. Госпожа Юлия Марция — Клеопатре(С тем же посланным)
Благодарю вас, великая царица, за ваши письма, а также за многочисленные знаки внимания во время моей болезни.
По поводу последнего письма: мой племянник осведомлен в общих чертах о тех лицах, о которых вы пишете. Речь идет об одной и той же организации, имена ее участников ему известны. Я сужу об этом по тому, что он говорил со мной о засаде у моста. Я не сомневаюсь, однако, что вы располагаете более подробными сведениями, а это чрезвычайно важно. Меня глубоко тревожит, великая царица, что мой племянник не подавляет подобных заговоров с той энергией и бдительностью, какие он проявляет, когда опасность грозит государству.
Я позабочусь о том, чтобы он узнал о покушении, назначенном на 28-е число. И, выбрав подходящую минуту, сообщу ему, что этим предостережением мы обязаны вам.
Время, в которое мы живем, повергает нас в такую растерянность и горе, что счастливые часы, проведенные с вами, кажутся мне канувшими в далекое прошлое. Да вернут поскорее бессмертные боги Риму хоть немного покоя и да отвратят от нас свой праведный гнев.
LXVII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину на остров Капри(Записи, видимо, сделаны в январе и феврале)
1017. (Соображения за и против постройки канала через Коринфский перешеек.)
1018. (О растущем спросе на римские предметы роскоши в Галлии.)
1019. (Просьба прислать книги для новых публичных библиотек.)
1020. Ты как-то раз со смехом спросил меня, снилось ли мне когда-нибудь «ничто». Я ответил, что да. Но мне оно снилось и потом.
Быть может, это вызвано неловким положением тела спящего, несварением желудка или другим внутренним расстройством, однако ужас, который ты испытываешь при этом, невыразим. Когда-то я думал, что «ничто» видишь в образе смерти с оскаленным черепом, но это не так. В этот миг ты словно предвидишь конец всего сущего. «Ничто» представляется не в виде пустоты или покоя — это открывшийся нам лик вселенского зла. В нем и смех и угроза. Оно превращает в посмешище наши утехи и в прах наши стремления. Этот сон прямо противоположен тому, другому видению, которое посещает меня во время припадков моей болезни. Тогда, мне кажется, я постигаю прекрасную гармонию мира. Меня наполняет невыразимое счастье и уверенность в своих силах. Мне хочется крикнуть всем живым и всем мертвым, что нет такого места в мире, где не царит блаженство.
(Запись продолжается по-гречески.)
Оба эти состояния порождены телесными парами, но рассудок говорит и в том и в другом случае: отныне я знаю. От них нельзя отмахнуться, как от миража. Обоим наша память подыскивает множество светлых и горестных подтверждений. Мы не можем отрицать реальность одного, не отрицая реальности другого, да я и не стану пытаться, как деревенский миротворец, улаживающий ссору двух противников, приписывать каждому свою убогую долю правоты.
В эти последние недели я, однако, не во снах, а наяву видел тщету и крушение всего, во что верил. Или даже хуже: мои мертвецы с издевкой взывают ко мне из-под погребальных одежд, а еще не рожденные поколения молят, чтобы я избавил их от шутовского хоровода земной жизни. Но даже в своей безмерной горечи я не могу отвергнуть воспоминаний о былом блаженстве.
Жизнь, жизнь наша обладает тем таинственным свойством, что мы не смеем сказать о ней своего последнего слова, не смеем сказать, хороша она или дурна, бессмысленна или упорядочена свыше. Но мы все это о ней говорим, тем самым доказывая, что все это живет в нас самих. Та «жизнь», по которой мы идем, бесцветна и не шлет нам знамений. Как ты когда-то сказал, вселенная и не подозревает, что мы существуем.
Поэтому дай-ка я откажусь от детской мысли, что одна из моих обязанностей — разгадать наконец, в чем сущность жизни. Дай-ка я поборю всякое поползновение говорить о ней, что она жестока или добра, ибо одинаково низко, попав в беду, обвинять жизнь в мерзости и, будучи счастливым, объявлять ее прекрасной. Пусть меня не дурачат благополучие и неудачи; дай мне радоваться всему, что со мной было и что напоминает о тех бессчетных проклятиях и криках восторга, которые исторгали люди во все времена.
От кого же, как не от тебя, мог я этому научиться? Кто с таким постоянством решается сопоставлять крайности, кто, кроме Софокла, считавшегося на протяжении девяноста лет своей жизни счастливейшим человеком в Греции, хотя ни одна темная сторона жизни не была от него скрыта?
Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Она не поддерживает человека и не унижает его. Мы не можем избежать ни душевных мук, ни радости, но сами по себе эти состояния нам ничего не говорят; и наш ад, и наш рай дожидаются того, чтобы мы вложили в них свой смысл, так же как все живые твари смиренно ожидали, чтобы Девкалион и Пирра дали им имена. Эта мысль позволяет мне наконец собрать вокруг себя благословенные тени прошлого — тех, кого до сей поры я считал лишь жертвами жизненной неразберихи. Я осмеливаюсь просить, чтобы от моей доброй Кальпурнии родилось дитя, которое скажет: в бессмыслицу я вложу смысл и в пустыне непознаваемого буду познан.
Рим, служению которому я отдал жизнь, — только понятие, лишь нагромождение построек более или менее монументальных, скопище граждан более или менее работящих, чем в других городах. Наводнение или безрассудство, огонь или безумство могут в любую минуту его разрушить. Я думал, что связан с ним кровно и воспитанием, но такая привязанность значит не больше, чем борода, которую я сбриваю по утрам. Сенат и консулы призывали меня защитить его, но Верцингеториг также защищал Галлию. Нет, Рим стал для меня городом только тогда, когда я вознамерился, как и многие до меня, придать ему свой смысл, и для меня Рим может существовать лишь постольку, поскольку я вылепил его по своему замыслу. Теперь я понимаю, что многие годы хранил детскую веру, будто люблю Рим, и что мой долг любить Рим, ибо я — римлянин, словно человек может любить нагромождение камней и толпу мужчин и женщин и еще быть достойным за это уважения. Мы не испытываем привязанности к чему бы то ни было, пока не придали этому смысл, и не уверены, что это за смысл, пока самоотверженно не потрудились над тем, чтоб вложить его в объект нашей привязанности.
1021. (О восстановлении разрушенного Карфагена и постройке мола в Тунисском заливе.)
1022. Сегодня мне сказали, что меня дожидается какая-то женщина. Она вошла ко мне в приемную, закутанная вуалью, и только когда я отпустил секретарей, она открыла свое лицо, и я увидел, что это Клодия Пульхра.
Она пришла предупредить меня о заговоре против меня и заверить, что ни она, ни ее брат в нем не участвуют. Потом она стала называть мне имена подстрекателей и дни, на которые назначены покушения.
Клянусь бессмертными богами, эти заговорщики забыли, что я любимец женщин. Дня не проходит, чтобы эти прекрасные осведомительницы не оказывали мне помощи.
Я чуть было не сказал своей гостье, что мне все это уже известно, но прикусил язык. Я мысленно представил себе ее старухой у очага, вспоминающей, как она спасла страну от гибели.
Она сообщила мне только одно новое обстоятельство: эти люди задумали убить и Марка Антония. Если это правда, они еще бездарнее, чем я предполагал.
Надо бы напугать этих тираноубийц, но я медлю: никак не могу решить, что с ними делать. До сих пор я всегда дожидался, чтобы смута дозрела: народ учит само деяние, а не та кара, которую за него налагают. Не знаю, что делать.
Друзья наши выбрали неудачное время для покушения на мою жизнь. Город постепенно наполняется моими ветеранами. (Снова набирались войска для войны с парфянами.) Они ходят за мной по улицам, выкрикивая приветствия. Сложив возле рта руки трубкой, они радостно перечисляют названия выигранных нами битв, словно это были веселые состязания в беге. А ведь я подвергал их всяческим опасностям и нещадно муштровал.