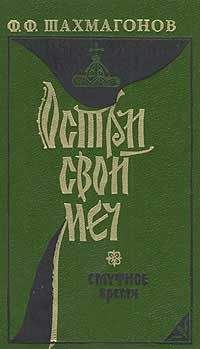Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
— Это как же — её регентшею при несовершеннолетнем Павле? — выдохнула Елизавета. — Изменить завещание? Нет, уж коли не мой племянник, то — тот, кого допреж императрица Анна определила. Виною новой дворцовой смуты я более не стану!
Она вдруг сдвинула локтем на туалетном столе все баночки с кремами, пудрами и всяческими притираниями и резко встала. Отошла к окну и, растворив его, с жадностью вдохнула тёплый, наполненный запахом цветов летний воздух.
— Вели запрягать, Ванюша, — произнесла тускло, словно в сомнении. — Поедем к нему.
— Куда? К кому, дорогая Элиз? — подошёл он сзади и обнял за плечи, сквозь ночную сорочку ощущая тепло её уже чуть рыхловатого тела.
— К нему, Иоанну! — резко оборотилась она к Ивану Ивановичу и, уронив голову ему на грудь, зарыдала: — Это я стала виною его несчастий. Я одна, и никто более. Я явилась его палачом. И ежели я его верну, Бог простит меня за моё прегрешение. Да, я — законная государыня. И я же — беззаконная. Вот так получается, Ванюша, так, мой родненький. Потому он, Господь, и насылает на меня болезни и гнев свой. Так едем же к нему туда, в Шлиссельбург.
Ничего другого не оставалось, как подвести её к креслу и поднести нюхательную соль.
— Успокойся, Элиз. Я всё сделаю так, как ты просишь, — сказал Шувалов. — Только я велю Александру Ивановичу привести его... сию означенную персону... в мой дом. И там ты его увидишь, коли такое твоё желание.
Через несколько дней карета императрицы доставила её к дому на углу Невского проспекта и Садовой, который она не раз посещала, даже оставаясь в нём на несколько дней. Шувалов провёл её в одну из просторных своих комнат и усадил насупротив двери, что вела в другое помещение.
— Опусти вуаль, Элиз, — шепнул он ей и тут же сам открыл маленькое окошечко, прорезанное в двери.
В глубине пустой, но хорошо освещённой комнаты ходил взад-вперёд худощавый молодой человек. На нём была старая, заношенная куртка, грубая белая посконная рубаха, синие холщовые шаровары и надетые на босу ногу башмаки.
В глаза бросился поразительно белый цвет его лица, никогда не видевшего солнца. И если бы не этот неестественный цвет кожи, лицо его можно было бы назвать даже приятным. Нос его был прямым, несколько даже удлинённым, нижняя челюсть слегка выдавалась вперёд, а глаза были большими, светло-голубого колера. Длинные белокурые и пушистые волосы свисали до плеч.
По мере того как он расхаживал взад и вперёд, бледные губы его, по-детски недоумённо полуоткрытые, что-то шептали.
— Кто вы? — послышался из угла его комнаты голос, в котором императрица узнала Александра Ивановича Шувалова.
— Я? — неожиданно вздрогнул и остановился несчастный. — Я — дух! Бесплотный дух святого Григория. Я — душа принца Иоанна...
Оцепенение охватывало императрицу по мере того, как в комнате за дверью раздавались шаги пленника, а затем его прерывистый, похожий на лай, хриплый голос.
— Довольно! Затвори фортку. Я более не могу этого перенести. Вези меня, Ванюша, домой, — произнесла она, смахнув перчаткою невольно хлынувшие слёзы.
В карете она молчала и только, когда оказалась у себя, сказала:
— Простит ли меня когда-нибудь Господь, но тому, кого я только сейчас видела, не бывать на троне. Он повредился умом. Сколь ему годков — двадцать, должно быть?
— Родился в августе одна тысяча семьсот сорокового года. Теперь так же август года уже шестьдесят первого. Так что аккурат двадцать один, — подтвердил Иван Иванович. — Ежели бы я тебя, святую, не любил всей душою, вовек не позволил состояться сему свиданию. В чём убедила тебя сия встреча?
— Избавила от надежды, коя иногда брезжила в моём уме: а вдруг он способен, вдруг здрав? — прошептала Елизавета. — Теперь надо возвращаться мыслию к тому, что остаётся в жизни: кому — Петру или Павлу — оставить трон? Знаю: не одна я занята сею мыслию. Ты сам мне не раз говорил, Никита Панин, воспитатель Павла, сим также озабочен. Вот и встренься ты с ним да потолкуйте душевно. Он, Никита Иванович, к тебе с доверием относится. Только чтобы всё — конфиденциально, чтобы ни одна сторонняя душа о сём не прознала. А там буду я сама решать. Умирать мне и вправду рано. Вели сегодня же объявить бал — плясать буду! Иначе чёрная тоска меня совсем сгложет, Ванюша...
Казалось, Елизавета вновь вернулась к делам. Однако к началу зимы болезнь с новою силою обрушилась на неё. За два дня до кончины, двадцать третьего декабря, императрица исповедовалась, а на другой день соборовалась и велела дважды читать отходные молитвы.
Все эти дни у постели умирающей неотлучно находились Иван Шувалов, великий князь и великая княгиня.
Когда она почувствовала, что сил остаётся уже совсем немного, знаком попросила племянника и его жену удалиться.
— Не успела я объявить свою волю, — с трудом произнесла она. — А тебе не приказала составить бумагу о том, что хотела бы тебя оставить правителем при несовершеннолетнем Павле Петровиче, потому как ты сам этого бы не принял. Как отказался — я знаю от Воронцова — от графского достоинства. Выполни же в таком случае мою последнюю волю — возьми из-под подушки ключ. Он — от сундука, что в моём изголовье. Там — на миллион золотом. Это — тебе.
— Никак... никоим образом, Элиз, я на сие не пойду! Разве я был рядом с тобою из-за богатства и власти? Не совершай того, что я не в силах принять. — И слёзы полились у него из глаз. — Одно то, что ты, моя государыня и благодетельница, удостоила меня чести быть рядом с тобою, будет до конца моих дней самой большою наградой, коей ты в состоянии меня одарить и осчастливить.
— Нет, Ванюша, ты дашь мне слово, что ключ окажется у тебя. А там поступай, как тебе велит совесть. Но ежели не к тебе попадёт сей ключ, а, прости меня, скажем, к брату твоему Петру или иной алчной до наживы персоне, душа моя будет неспокойна, — с трудом проговорила Елизавета. — И ещё... Тебе могу лишь доверить. Когда меня не станет, езжай за границу. И разыщи. Ты знаешь кого. Обереги её от несчастья, коли над нею нависнет беда. А всякое может случиться: прознает кто, что она кровинка моя, и подобьёт её получить трон. Но ты знаешь, что произойти может, — беда и пагуба жизни. Никто её не сможет так остановить и направить на стезю праведной жизни, как ты со своим добрым сердцем. Обещай мне...
— Где, где теперь она? Слышишь же, Элиз, ответь мне! Я обещаю сделать всё так, как ты велишь. Только укажи, где её искать.
Но она уже ничего не могла сказать. В Рождество, в начале второй половины дня, её не стало.
Часть вторая
МЕЖДУ ДВУМЯ ЦАРСТВОВАНИЯМИ
Милости нового государя
удович, ко мне никого не впускать!
Пошёл уже второй час, как великий князь Пётр Фёдорович стал всероссийским императором.
Выбежав из покоев почившей государыни, он, высоко вскинув голову, прошёл упругим деревянным шагом мимо склонившихся в трауре вельмож и направился на свою половину.
С чего-то очень важного и необычного должно начаться его царствование. Но как определить сей главный акт, знаменующий начало эры его, Петра Третьего?
Он подошёл к зеркалу, занимавшему весь промежуток стены от пола до потолка, и оглядел себя с ног до головы. Узкий голштинский мундир. Высокие, блестящие чёрным лаком сапоги. На голове — завитой, с буклями парик. Однако взгляд был почему-то беспокойный, блуждающий.
Нет, так не должен выглядеть тот, кто облечён властью. И, повернувшись к противоположной стене, новоиспечённый император сорвал с крюка огромный, не по его тщедушной фигуре, палаш и, став в позу, вновь бросил взгляд на зеркало.
— Теперь зер гут, теперь ка-ра-шо! — произнёс он вслух и рубанул воздух стальным клинком.
«Кончились маскарады и балы, — принял он в зеркале гордую позу. — Императора отныне будут видеть там, где и положено быть тому, у кого в руках судьба огромной державы, — на плацу. Да, первым моим делом станет армия и гвардия. И первыми указами — указы о производстве верных мне людей в самые высшие чины Российской империи».
— Гудович! Шнель, быстро перо и бумагу.
В два прыжка император оказался у конторки, и перо быстро побежало по бумаге:
«Срочно вызвать в Петербург из Ревеля губернатора Эстляндии принца Петра Августа Фридриха Голштейн-Бека и, возведя его в генерал-фельдмаршалы, назначить петербургским генерал-губернатором. Генералу же прусской службы принцу Георгу Людвигу Голштейн-Готторпскому, тако же возведя его в генерал-фельдмаршалы, присвоить чин полковника конногвардейского полка...»
«Гм, — опять подскочил к зеркалу и недовольно сморщил нос император. — Это все мои родственники. Притом должность полковника конной гвардии до сего момента была должностью, занимаемой самой императрицей. Тётка не обидится — она мертва. Но что скажет гвардия? Что ж, я кину этим русским свиньям подачку. Есть Корф, Николай Андреевич. Он когда-то привёз меня из Киля, и я наконец его отблагодарю. Я назначу его на собственное место полковника лейб-кирасирского полка и сделаю главным директором над всеми полициями с указанием состоять единственно под моим ведением. Мало для них, русских? Вновь скажут, что жалую одних немцев? Впрочем, мне на это начхать! Однако, чтобы заткнуть недовольным рты, кину им ещё одну подачку — фельдмаршала князя Никиту Трубецкого произведу в подполковники Преображенского полка. На своё, кстати, место. Себя же переведу в этом полку в полковники. Далее...»