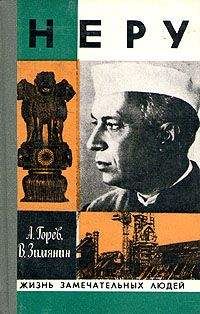Теодор Парницкий - Серебряные орлы
— А ты не думаешь, сын мой, что, может быть, они вовсе не над тобой смеялись? Что, может быть, никакой измены в их смехе не таилось? Может быть, они смеялись друг другу, радуясь, что вновь вместе…
Глаза Оттона быстро-быстро замигали.
— Что ты хочешь сказать? Как ты это понимаешь? Ты говоришь, что они радовались, что снова вместе?
— Именно так я и сказал, сын мой. Неужели ты никогда не думал, что, может быть, они очень любили друг друга?
Оттон засмеялся.
— Сын мой, ты на исповеди! — строго напомнил ему Аарон.
— Нет, нет… это невозможно… ты просто глупец… ничего не понимаешь… Если бы ты знал… если бы ты слышал, что она мне говорит, когда будит меня ночью и просит… нет, нет… она меня любит — только меня — так, как я сказал: так, как ни одна женщина никогда не любила ни одного мужчину…
— Почему же тогда ты сказал, что, прощая Кресценция, ты хотел изгнать его, чтобы он был как можно дальше от Феодоры Стефании?.. Что значили слова «как можно дальше от нее»?
Оттон вздрогнул и низко склонил голову.
— Нет, нет, — повторил он упрямо, — нет, они означали не то, что ты подумал… Вовсе нет… Ох, какой же ты глупый, какой темный… А ведь были минуты, когда я считал тебя мудрецом, таким же, как папа… Говоря «как можно дальше от псе», я имел в виду заботу, чтобы спасти ее от искушения, чтобы слабая женская душа не дала втянуть себя в путы вероломного заговора… Ты же знаешь, она так гордится, что рождена римлянкой, что ее тетки и бабки владели Римом, ставили и свергали по своей воле пап… Я стал рисовать перед ними обоими — коренными римлянами во многих поколениях — картину великолепной империи, которая возродится благодаря моему могуществу… Я говорил, а он смеялся, смеялся дерзко, издевательски. Слышишь? И посмел, несчастный, посмеяться над моим римским духом, кичась предо мной своими корнями, уходящими в землю этого города веками… О, я его хорошо понял: он считает меня саксом, приблудным, варваром — меня! — меня, о ком сам папа и Иоанн Феофилакт говорят, что великолепный римский дух моего величества затмевает память Константина, Траяна, Августа… А он смеялся — и она с ним, она с ним… надо мной… нет, не надо мной… она не надо мной… нет… Над моим римским духом смеялась, подстрекаемая им — и он должен был погибнуть…
Оттон на миг смолк, чтобы неожиданно исторгнуть из себя робким шепотом, пристыженным, поистине жалобным:
— Отец, преподобный отец, что ты сам думаешь о моем римском духе?
Аарон растерялся. Оробел. Не знал что сказать. Не мог сосредоточиться должным образом: слова императора вновь оживили сборище веселых юнцов и девушек, купающихся в пруду, парами убегающих к старым гробницам, гордо говорящих о себе: «Настоящие римляне — это мы, только мы…»
Но к счастью для него, отвечать не пришлось. Мысль Оттона лихорадочно крутилась вокруг этого «как можно дальше от Феодоры Стефании».
— Так вот, монах, — сказал он глухо, но с такой одержимостью, что Аарон даже вздрогнул, — если бы было так, как ты говоришь, если бы она его когда-нибудь, хоть бы даже еще тогда, когда я ее не знал, любила… но любила не так горячо, как любит сейчас меня, — слишком легка была бы для него та казнь, на которую я его обрек… Если бы я хоть один миг думал так, как ты, бедный глупец, думаешь, — прошли бы месяцы, целые месяцы, прежде чем ему отрубили бы голову. Его бы так истязали по моему приказу, что даже у венгров, самых диких язычников, от одного рассказа об этих муках волосы поседели.
— И так случилось бы, стоило тебе хоть на миг подумать, что она его любит? — дрожащим голосом спросил Аарон.
Оттон молча кивнул головой.
— Но почему ты приказал так страшно истязать Кресценция, а не Феодору Стефанию? Ведь ты же говоришь о ее любви?
Минута тишины, долгая минута тишины. А потом рыдание. Тихое, еле слышное, полное стыда рыдание:
— Потому что… потому что я не могу без нее.
И вновь тишина. На этот раз из-за Аарона. Потому что он не знает что сказать. Не знает, как должен поступить исповедник после такого признания. Собственно говоря, исполняя волю паны, он должен бы попытаться внушить Оттону, чтобы тот отдалил от себя Феодору Стефанию. Но он чувствует, что сейчас он на это не способен. Сейчас, когда император, рыдая, сказал: «Я не могу без нее». Аарон дивится себе: ведь это рыдание должно бы наполнить его гордостью, ведь ничто лучшим образом не свидетельствует о победе, которую он одержал над душой Оттона. Неужели он мог когда-либо себе представить или хотя во сне увидеть, что вечный государь, цезарь император, повелитель королей и князей и могущественных армий, владыка всего мира, будет в слезах раскрывать свою душу перед ним, приблудным монахом, не знающим отца своего, не помнящим матери? Перед ним будет разбираться в самых сокровенных, самых стыдливых своих чувствах?! К нему будет взывать, чтобы помог, дал совет, понял его?! Он достиг большего, чем хотел, большего, чем Сильвестр Второй мог ожидать от куда более опытного исповедника. Вот так сразу добился того, чего не ожидал и к чему не стремился: теперь он испытывает к Оттону доброжелательное сочувствие, оно мешает ему быть суровым, испытывать превосходство, лишает проницательности и бдительности. Он молчит, так как не может решиться на дальнейшую борьбу, просто не хочет бороться. Он не может заставить себя по-прежнему называть Оттона сыном, а не императорской вечностью. Так и хочется этим торжественным титулованием вернуть рыдающему юнцу чувство силы и гордости. Но он понимает, что нельзя этого делать, — и молчит.
Оттон же понял его молчание как знак того, что исповедь окончена. И вздохнул с облегчением.
— Колени занемели, — прошептал он, улыбаясь сквозь слезы.
В шепоте этом, полном пристыженности и извинения, было столько детской покорности и одновременно доверия, что Аарон не мог удержаться от слез. Охотнее всего он поднял бы руку, чтобы дать Оттону отпущение, но, помня наказ папы, с сожалением одернул себя: еще не время.
— У сына божьего в вертограде и на Голгофе не одни колени страдали, — сказал он, громадным усилием воли пытаясь придать своему голосу как можно больше строгости, — а ведь он страдал не за свои грехи, а за наши, и за твои тоже, сын мой…
Смолк было, потом на одном дыхании быстро произнес:
— Тебя же учили, что грех быть в связи с женщиной, хоть и самой желанной, но не сочетавшейся с тобой таинством брака в господе. Ты должен жениться, сын мой.
И сам испугался своих слов. Что он натворил? Воистину сочувствие к Оттону лишило его проницательности и бдительности. Он поторопился, исполняя наказ папы, ведь именно эта минута была самая не подходящая для такого наказа! Оттон только что рыдал, со стыдом признаваясь, что не может без Феодоры Стефании. Зачем тогда нужно долгие годы изучать логику, если ты не мог сообразить, что из двух посылок: «Я не могу без нее» и: «Женись» единственно правильный вывод: «Я женюсь на Феодоре Стефании».
А ведь подобный вывод находился в явном противоречии с желанием Сильвестра Второго: достаточно Аарону припомнить все, что папа говорил Феодоре Стефании и ему сразу же после ее ухода, чтобы с ужасом осознать, какую он совершил ошибку. И в отчаянии подумал, что папа одарил его незаслуженным доверием: нет, не должен был он браться за это задание, с которым не справился. Не только опыта ему недостает, но и проницательности и умения рассуждать. Думая, что творит добро, он совершает непоправимые ошибки.
— Нет, отче, я не женюсь. Никогда.
Такого ответа Аарон не предвидел, не предчувствовал. Он принес облегчение, по вместе с тем и тревогу. С неподдельной строгостью он потребовал объяснения. Но спрашивая почему, он мало питал надежды, что ответ императора будет связан с чувством гордости: раз уж греческие базилевсы отказали ему в сестре, то нет во всем мире королевны, достойной императорской диадемы. С таким ответом еще можно бороться, и Аарон, наученный папой, знал, как бороться. Но тут он был уверен, что, к сожалению, ответ будет не чем иным, как новым заявлением: «Не могу без Феодоры Стефании…» Значит, Аарон совершенно беспомощен.
Он заметил, что его вопрос уязвил Оттона.
— Святейший папа мог бы, однако, подобрать более подходящего исповедника для беседы с душой императорской вечности, — произнес он почти гневно. — Я мог бы разъяснить тебе, монах, о чем мечтает, по чему тоскует, к чему стремится наше священное величество… Неужели тебе и впрямь неизвестно о пашей воле отречься от всех мирских дел и удалиться в отшельничество, чтобы посвятить себя господу?
Тут уж Аарон совершенно искренне пожалел, что не положил конец исповеди. Вот забрел вместе с Оттоном в такую чащобу тайников его души, да так, что уже не видит никакой возможности выбраться. И не только себя винил он мысленно, но и папу. И не только в том, что ему, такому неопытному, такому беспомощному, доверил такое трудное задание. Хотелось еще укорить Сильвестра Второго, что тот его совершенно не выучил, как отнестись к мечте императора оставить сей мир и удалиться в обитель. Ведь в качестве исповедника, служителя Христова, он не может не высказать похвалы столь благочестивым намерениям. Он должен горячо уговаривать Оттона, чтобы тот последовал голосу своей души. Но что тогда будет с империей? Поощряя императора, он, Аарон, повлиял бы на судьбы стольких королевств, на судьбы всего христианства! А какое он имеет на это право? Откуда он может знать, благие или пагубные последствия для империи повлечет за собой это отречение? Даже в голове помутилось. Из совета папы, чтобы во время исповеди он склонял императора жениться, недвусмысленно вытекает, что Сильвестр Второй совершенно не считается с мечтою Оттона отказаться от власти, стать монахом или отшельником. Точно папа ничего об этих мечтах не знает! А отсюда следует, что Аарон должен отсоветовать императору отрекаться от мира и власти. А можно ли это делать? Не возьмет ли он на себя тяжкий грех? И не удивительно будет, если Оттон решительно встанет с колен и уйдет, сказав на прощание: «Не достоин ты меня исповедовать, не достоин, чтобы я называл тебя слугой того, кто сказал богатому юноше: „Раздай все, что у тебя есть и следуй за мной“».