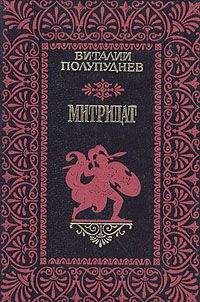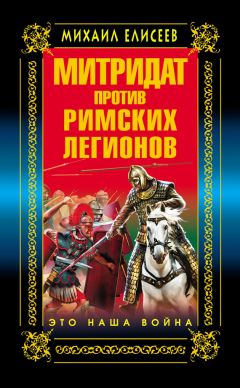ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II
Уголок рта Сен-Жюста чуть приподнимается в усмешке. Ну и что? Если люди даже «позабудут» прах Мирабо, будет ли после этого забыто имя Мирабо? Так же как и имя Марата. А что до «доброй» славы? Она преходяща, но она все равно остается – и «добрая», и «плохая»… Как преходяща и скорбь, которая охватила сейчас весь санкюлотский Париж…
Его не было в столице, когда умер Лев Прованса, но Сен-Жюст уверен, что такой поистине вселенской скорби не было и на похоронах Мирабо. Отец Мирабо писатель и философ-физиократ называл себя Другом людей, будучи сам жестоким и непримиримым человеком (Сен-Жюст слышал это от Демулена, одно время очень близкого к Мирабо), но разве его сын был так уж близок всей этой столичной бедноте? Что ему были санкюлоты? Что он был санкюлотам? Да, что говорить, ни один из оставшихся в живых республиканских вождей не сравнится в этом с нищим Другом народа, нищим, потому что бумажная ассигнация в 25 су меньше однодневного заработка поденного рабочего, – вот и все, что оставил после себя Марат, – квартира, мебель, даже ванна, в которой его убили! – все было взято внаем [85]; кто же после этого может сравниться с Другом народа? Какой еще другой Друг людей?
Разве так горевала беднота столицы, когда враги убивали, например, того же злосчастного Лепелетье Сен-Фаржо (де Сен-Фаржо!)? – в этот момент мимо гроба Марата как раз дефилирует секция Лепелетье – бывшая секция Библиотеки, и Сен-Жюст переводит взгляд с нее снова на гроб. Здесь его снова поражает невероятная величина постамента, ибо целых сорок ступеней, покрытых трехцветной драпировкой, ведут к возвышению, на котором стоит гроб Друга народа.
Сен-Жюст смотрит на постамент, засыпанный цветами, на обнаженное тело Марата, только до пояса прикрытое смоченной в гипсе простыней, изображающей гробовый покров античного типа (было решено, чтобы убитый, подобно древним героям, предстал перед своим народом в том виде, в каком его застигла смерть, – голым по пояс,
с зияющей раной на груди над правым соском), он видит, как два человека у изголовья постоянно увлажняют тело ароматическим уксусом, ощущает запах сжигаемых благовоний, совершенно не дающих почувствовать запах тления; и, глядя на всю эту «античную композицию», которой особую окраску придает проходящая мимо в скорбном молчании секция Муция Сцеволы, носившая совсем еще недавно имя Люксамбур, – с поднимающимся изнутри уже почти радостным чувством думает о возвращающихся временах Римской Республики, добродетельной и справедливой, Республики, которая принесет отступившему от идеалов греко-римского мира спасение.
Сен-Жюст пропускает взглядом «античную» секцию и переводит глаза на неизменного Давида, который, конечно же, не может не быть тут: здесь же, сидя у постамента, он заканчивает наброски для своей новой картины и, по-видимому, понимает смысл происходящего (только чувствами, а не разумом) не хуже самого Сен-Жюста. Написавший «Смерть Лепелетье», разве Давид может отказаться от «Смерти Марата»? – «Я напишу эту картину всем сердцем!» – сказал он, и можно поверить, что помешавшийся, как и все, на античных образах древних республиканцев некрофильствующий живописец искренне увлечен апофеозом еще одной великой смерти… А ведь «античный» герой Марат умер истинно «римской» смертью – в ванне, подобно бесчисленному количеству римских нобилей, вскрывавших себе бритвой вены в горячих ваннах после рокового для них визита центуриона претория, который обращался к ним с сакральной фразой: «Цезарь император спрашивает тебя: не достаточно ли долго ты жил?»
«Марат, не достаточно ли ты прожил?» – спросил Бог санкюлотов у своего пророка…
И Сен-Жюст кивает головой, с суровым одобрением приветствует это понимание Давида, великого художника, благодаря которому искусство двухтысячелетнего прошлого стало не просто искусством настоящего, но и данностью реальной жизни. И так же как Давид, как должное принимает он и лавровый венок триумфатора, который венчает голову мертвого Марата (как хорошо придумано, – жаль, что победного лавра не будет на будущей картине, ведь в момент смерти на голове Марата была просто стягивающая лоб мокрая повязка!), он ему нравится куда больше, чем тот первый дубовый венок, который украшал чело Друга народа в день его оправдания Революционным трибуналом.
«Марат, не достаточно ли ты прожил?» – спросила Корде…
Проходит секция Французского Пантеона… Сен-Жюст чувствует, как растет холодная отчужденность к происходящему застывшего рядом с ним в отстраненной неподвижности Робеспьера, и внутренне усмехается. Именно Неподкупный добился (причем с большим трудом!) отклонения предложения якобинцев (в лице Бентаболя) почестей Пантеона для Марата! Он мотивировал это совершенно странным заявлением, что негоже покоится великому Другу народа вместе с изменником Мирабо [86]. Эх, Максимилиан! – на этот раз твои чувства возобладали над твоей политической осторожностью! Так ли уж надо было показывать парижской толпе свою нелюбовь к покойному, – она и так была всем слишком хорошо известна.
«Марат, не достаточно ли ты прожил?» – сказали все они – жирондисты и монтаньяры, крайние и умеренные, Дантон и Робеспьер… И Робеспьер…
Проходит секция Санкюлотов… Сен-Жюст видит скорбные лица секционеров и снова думает о всенародной любви всего «четвертого сословия» к Марату, прямо противоположной такой же массовой неприязни к трибуну всех остальных «добропорядочных» граждан, и более всего – всех лидеров революции без исключения. Даже и Робеспьер… Антуан не поворачивает головы, чтобы посмотреть на Максимилиана, но чувствует, как тот с нетерпением ждет окончания церемонии, настолько он тяготится ею. Или, может быть, Сен-Жюст ошибается? Может быть, наоборот, Робеспьер ликует в душе? Теперь никто не будет стоять между ним и народом, потому что, надо признаться в этом хотя бы самому себе, в Конвенте никто не стоял к народу так близко, как Марат. И не только в Конвенте…
Но к какому народу?…
«Марат, не достаточно ли ты прожил? – ведь все равно нет пророков в своем отечестве…»
Сен-Жюст наблюдает, как с развернутыми знаменами проходит мимо секция Гравилье, известная своими «крайностями», и от ее имени лидер «бешеных» Жак Ру со слезами на глазах клянется стать «наследником дела великого Марата» и продолжить его «священную борьбу» за права обиженных и угнетенных. И, подумать только, в последних номерах своей газеты Марат избрал себе мишенью именно этого «бешеного» аббата и разоблачал как очередного «врага революции» своего истинного наследника по духу. Что же, бывает, ошибается и Кассандра… Но нет, ты смеешься сам над собой, гражданин, разве наследник Марата – Жак Ру и прочие «гравильеры»? Разве авторитет Жака Ру или Леклерка сравним с авторитетом Друга народа? Наследником может быть только их революционное правительство… или даже один Робеспьер. Наследником может… должен быть и он, Сен-Жюст.
Но наследником чего?
Сен-Жюст смотрит на проходящую мимо секцию Инвалидов и думает о своих странных чувствах к Марату. Каким бы неопрятным оборванцем не был Марат в последние годы жизни, он был крупным ученым (Антуану хочется в это верить!), заявившим о себе в Европе еще задолго до революции (не Жак Ру!) [87]. Каким бы кровавым безумцем не казался Марат в своих газетных выступлениях и заявлениях с трибуны, он-то ведь смог предвидеть весь ход событий заранее: и бесчисленные измены всех этих «людей 1789 года», и террор контрреволюции, и даже то, к чему теперь они будут вынуждены прибегнуть (хотя многие еще об этом и не догадываются, но и он и Робеспьер уже хорошо понимают это!) – революционный террор… и революционную диктатуру…
Революционную диктатуру… И Марат понял это раньше, чем кто-либо другой. И ради этого Сен-Жюст готов простить покойному и его неопрятный внешний облик, и его «санкюлотские» манеры, и даже бешенно-взрывной темперамент. И в то же время можно понять, что никогда живой Марат не стал бы ему близок по-настоящему (а не был ли до того и неприятен?). И, может быть, даже страстно призывавший к диктатуре и террору Марат ушел вовремя, ушел, когда его призывы действительно стали осуществляться. Ведь как бы дальше могло повернуться дело, останься Друг народа в живых? С его-то непредсказуемостью, с его бескомпромиссностью, с его оторванностью от реалий истинной политики (и – от других членов правительства)? Не стал ли бы он помехой их коллективной революционной диктатуре, Робеспьеру, Сен-Жюсту?…
Марат не был бы никому помехой, если бы только сам был диктатором и никто не был бы выше его…
А так его смерть оказалась ненапрасной – теперь еще легче будет повернуть всю политику влево. Конечно, Дантон перегнул палку, когда сказал, что смерть Друга народа принесла больше пользы делу свободы, чем его жизнь, так как показала всем, откуда грозят кинжалы врагов. Эти двусмысленные слова Дантона только подпортили репутацию трибуна, но с ним-то все понятно: «Марий кордельеров» никогда не любил Марата, даже когда укрывал и защищал его в своем дистрикте с большим для себя риском! Но вот Робеспьер… Ему-то с чего было относиться к убитому с прежней неприязнью? К тому, кто стал главным виновником устранения жирондистов из Конвента и тем самым расчистил Максимилиану путь к власти? К тому, чьи политические убеждения уже настолько сблизились с политическими взглядами Робеспьера, что теперь никаких особых разногласий между бывшим «либеральным» адвокатом и «кровожадным» врачом, если бы он остался жив, не было бы вовсе? Так в чем же дело? Неужели Неподкупный все еще никак не может забыть ту свою первую встречу с Другом народа в январе 1792 года, когда доктор Марат буквально поверг в шоковое состояние весьма умеренного тогда бывшего депутата Учредительного собрания Робеспьера?