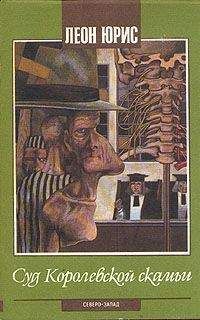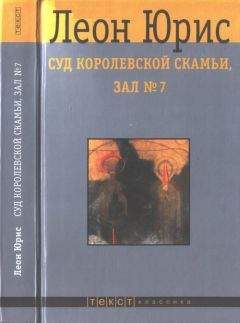Юрис Леон - Суд королевской скамьи
Зал онемел от изумления.
— По крайней мере, теперь нам известна ваша позиция.
— Итак, доктор Лотаки, — продолжил допрос Баннистер, — вы в самом деле верили, что Восс будет использовать для операций неопытных санитаров СС?
— У меня не было оснований сомневаться в его, словах.
— Восс обратился к Гиммлеру, от которого и получил указание продолжать эксперименты. Если яичники и другие органы не будут извлечены подобающим образом, они окажутся негодными для экспериментов. Ради Бога, как можно было поверить в эту чушь относительно санитаров у операционного стола?
— Восс вообще был психом, — фыркнул Лотаки. — Все, что он делал, отдавало сумасшествием.
— Но он явно блефовал. Он должен был посылать отчеты в Берлин, и ему были нужны опытные хирурги.
— Значит, он мог послать меня в газовую камеру, как Дымшица, и найти другого хирурга.
— Доктор Лотаки, не будете ли вы столь любезны описать милорду и присяжным, что представлял собой доктор Дымшиц.
— Он был евреем, в годах, ему было лет семьдесят или около того.
— Условия жизни в концлагере еще больше состарили его?
— Да.
— Каков был его внешний вид?
— Он был очень стар.
— Слаб и немощен?
— Я... я... бы так не сказал.
— Он не мог больше работать хирургом... он не представлял больше интереса для немцев.
— Я бы... этого... не мог сказать... он слишком много знал.
— Но и вы, и Кельно знали не меньше его, но вас не отправили в газовую камеру. Вы перешли в частную клинику. Я предполагаю, что доктора Дымшица ждала газовая камера, потому что он был стар и слаб. Только в этом я вижу подлинную причину его гибели. Далее, доктор Кельно утверждает, что явился жертвой заговора коммунистов против него. Вы коммунист. Как вы можете оценить его слова?
— Я оказался в Лондоне, чтобы сказать правду! — вскричал Лотаки, которого била дрожь. — Почему вы считаете, что коммунист не может говорить правды или свидетельствовать в пользу некоммуниста?
— Слышали ли вы о Бертольде Рихтере, коммунисте, занимающем высокий пост в Восточной Германии?
— Да.
— Известно ли вам, что он и сотни других нацистов, которые в прошлом служили в концлагерях, ныне стали сторонниками коммунистического режима?
— Минутку, — сказал Гилрой, поворачиваясь к членам коллегии присяжных. — Я убежден, что мистер Баннистер совершенно прав в своем последнем утверждении, но оно не может быть сочтено доказательством, если будет представлено в данном качестве.
— Я хочу сказать, милорд, что коммунисты, не моргнув глазом, реабилитировали бывших нацистов и эсэсовцев, которые представляли для них ценность.
Каким бы черным ни было их прошлое, но, если они преклонялись перед алтарем коммунизма и если могли быть полезными для режима, все их прошлое предавалось забвению.
— Вы же не предполагаете, что доктор Лотаки был нацистом?
— Я предполагаю, что доктор Лотаки проявил гениальные способности в искусстве выживания, что он и доказал — не единожды, а дважды. Доктор Лотаки, вы говорили, что отправились к доктору Кельно как своему начальнику обсудить ситуацию с операциями.
— Что бы вы стали делать, если бы доктор Кельно отказался их проводить?
— Я... я бы тоже отказался.
— Вопросов больше не имею.
10
Эйб молча сидел в темноте. У бывшего каретного сарая остановилась машина, хлопнула дверца.
— Папа?
Бен пошарил по стенке в поисках выключателя и щелкнул им. Его отец полулежал в кресле в другом конце комнаты, и высокий стакан с виски стоял у него на груди.
— Ты уже выпил, папа?
— Нет.
— Продолжаешь пить?
— Нет.
— Час тому назад все собрались у мистера Шоукросса. И все они ждут тебя. Миссис Шоукросс поставила такое прекрасное угощение, и пришел пианист, который играет для всех... и... ну, и леди Уайдмен послала меня, чтобы я притащил тебя.
Отставив стакан, Эйб приподнялся и остался сидеть, понурив голову. Бену уже много раз доводилось видеть своего отца в таком состоянии, после того как он писал весь день. Бен, когда они жили в Израиле, заходил в его спальню, которая служила и кабинетом. Отец был в полном изнеможении и порой не мог скрыть слез, работая над книгой; иногда он был таким уставшим, что даже не мог расшнуровать себе ботинки. И сейчас он выглядел точно так же, если не хуже.
— Я не могу встречаться с ними, — сказал Эйб.
— Ты должен, папа. Как только ты увидишь их, то забудешь, каким они подвергались унижениям. Это очень живые люди, они смеются, они раскованы и страшно хотят увидеть тебя. Утром прибил из Голландии еще один человек и еще женщины из Бельгии и Триеста. И все они собрались вместе.
— Какого черта они хотят меня видеть? Потому что я заставил их приехать в Лондон, где их, словно лягушек, будут рассматривать под увеличительным стеклом?
— Ты знаешь, почему они оказались здесь. И не забывай, ты являешься для них героем.
— Вот уж действительно героем, черт бы меня побрал.
— Ты герой для Ванессы, для меня и для Иосси.
— Еще бы.
— Неужели ты думаешь, мы не знаем, почему ты так ведешь себя?
— Ну конечно. Мы вам услужили как нельзя лучше. Примите от моего поколения дар вашему поколению. Концентрационные лагеря, газовые камеры, унижение человеческого достоинства. И теперь, приняв наши подарки, вам, ребята, предстоит быть культурными и цивилизованными.
— Есть еще один дар — умение быть мужественными.
— Мужественными. Ты имеешь в виду страх перед тем, что преподносит тебе жизнь, после чего предстоит жить как ни в чем не бывало. Это не мужество.
— Будь хоть один из них трусом, он бы не приехал в Лондон. А теперь собирайся, я помогу тебе зашнуровать туфли.
Бен опустился на колени к ногам отца и завязал шнурки на его туфлях. Согнувшись, Эйб взъерошил волосы на голове сына.
— Черт побери, что у вас за авиация, которая позволяет тебе носить такие усы. Мне бы чертовски хотелось, чтобы ты сбрил их.
Едва только явившись в дом Шоукросса, он испытал огромную благодарность к Бену, который вытащил его. Представляя его шестерым мужчинам и четырем женщинам, к которым она относилась как к родным, Шейла Лем продолжала чувствовать некоторую скованность Эйба. Но теперь рядом с ним были и Ванесса, которая помогала справляться с его ломаным ивритом, Иосси, с обожанием смотревший на его дочь. Присутствие трех молодых израильтян придавало всем бодрости. Рукопожатиями тут не обменивались. Были объятия, поцелуи, как принято между братьями и сестрами.
Дэвид Шоукросс преподнес каждому из гостей собрание книг Эйба, подписанное им, и вокруг царило настроение, которое бывает у солдат перед битвой. Эйб оказался рядом с доктором Либерманом, с которым обменялся шуткой, что, поскольку у него только один глаз, он должен вдвойне внимательней присматриваться ко всем прочим. Улучив минуту, они уединились.
— Меня пригласил ваш адвокат, — сказал доктор Либерман. — Он решил, что, так как большинство показаний будет даваться на иврите, лучше всего, чтобы я служил переводчиком.
— Как насчет медицинского освидетельствования? — спросил Эйб.
— Они решили, и я согласился, что медицинское освидетельствование произведет больший эффект, если будет проведено английским врачом.
— Сначала все отказывались, — сказал Эйб. Вы же знаете, как врачи относятся к необходимости свидетельствовать друг против друга. Но нашлись порядочные люди.
Как ни странно, вечер был полон неожиданной раскованности, но в конце концов на всех навалилась усталость и вместе с ней пришла растерянность. Все стали поглядывать на Абрахама Кэди.
— Я еще недостаточно выпил, чтобы говорить речи, — сказал он.
Но не сговариваясь, они столпились перед ним, глядя на человека, который отказывался быть их героем, а он, в свою очередь, уставился в пол. Затем он поднял глаза. Рядом стояли Дэвид Шоукросс, сигара которого давно потухла, и леди Сара с обликом святой. И нежная Ванесса, все еще напоминающая английскую аристократку, и Бен, и Иосси, молодой лев Израиля. И жертвы...
— Только завтра мы по-настоящему вступаем в дело, — сказал Эйб, обретя наконец силы обратиться к этим десяти обыкновенным людям, глядящим на него. — Я знаю, и вы знаете, какое вам предстоит тяжелое испытание. Но мы оказались здесь потому, что не можем позволить, чтобы мир забыл произошедшее с нами. И когда вы окажетесь на свидетельском месте, помните, все помните пирамиды костей и праха еврейского народа. И когда будете говорить, помните, что вы говорите от имени тех шести миллионов, которые ни когда больше не проронят ни слова... помните это.
По очереди подходя к нему, они пожимали Абрахаму руку, целовали его в щеку и исчезали из комнаты. И наконец рядом остались только Бен и Ванесса.