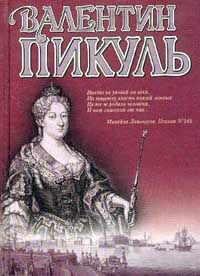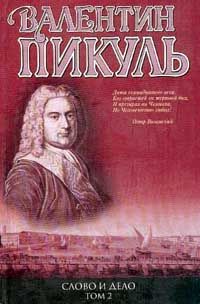Валентин Пикуль - Слово и дело. Книга 1. «Царица престрашного зраку»
«Нет ли тут злого умысла?» — задумалась Анна Иоанновна, и Лаврентия Лаврентьевича призвали ко двору.
И сказала царица Блументросту слова подозрительные:
— Что же ты, архиятер, рецепт от себя худо пишешь? Гляди-ка сам, что получается… Дядю моего, Петра Первого, лечил — он опочить соизволил; Екатерину Алексеевну ты лечить взялся — тоже духу не удержала; теперь и племянника моего, Петра Второго, говорят, уморил ты…
Низко поклонился ей старый Блументрост — Академии наук президент и лейб-архиятер их императорских величеств и высочеств.
— Напрасно изволите гневаться, — ответил он, выпрямляясь. — Великий дядя ваш, сами ведаете, отчего помер… Екатерина же Первыя, кроме вина, ничего больше не пили. Петр же Вторый, племянник ваш, был охотами истощен и в науках любовных искушен сызмальства… А врачи ведь — не боги!
Анна Иоанновна обозлилась, пошла рукава поддергивать.
— А коли так, — сказала, пыхтя, — то можно ли врачам доверять здоровье богов земных? (И при этом на себя указала.) Каково же сестрице моей, Екатерине Иоанновне, кою ты ныне лечишь?
Дикая герцогиня Мекленбургская Блументроста жаловала: он ей тайные аборты производил, и Анна, конечно, знала о том.
— Ваше величество, — опять склонился старый врач перед царицей. — Эскулапам, как и цезарям, положено быть честными. И потому скажу вам честно: кончина вашей сестры тоже не будет в благоуханье святости. Ибо никакое чрево того не выдержит, что утроба герцогини Мекленбургской ежемесячно выносит… А — вино? Вы знаете, сколько пьет вина ваша сестрица?
Громадная рука Анны Иоанновны обрушилась сверху. Удар! — и старик покатился по полу.
— От Академии моей тебя отрину! — заревела Анна. — Словечко одно скажу, и быть тебе в окно из дворца брошену! Смеешь ли ты рассуждать о нас — о помазанниках божиих! — яко о тварях земных?
Блумейтрост уехал в Измайлово, и — притих. Академией он уже давно не занимался: Лаврентий Лаврентьевич был опытный врач, но никакой не ученый. Теперь место его было упалое, и при дворе снова заволновались.
— Академия свободна, — говорили. — Президент нужен!
— А — кого? Вон барон Корф, он книжки читает…
— Друзья, Кейзерлинг умнее Корфа!
— Ну это еще не выяснено, кто из них умнее… Блументрост упал. Да столь крепко упал, что в Петербурге еще выше подскочил секретарь Данила Шумахер, хорек удивительный (после него долго Академию «де-сиянс» проветривали). И говорил теперь Шумахер речи деликатные. Вот так он говорил:
— Что ж, я согласен: пусть Россия — господину Бирену, но уж русскую Академию, извините, я не уступлю. Она — моя! Меня еще Петр Великий высочайше изволили жаловать. Да и жена у меня — дочь лейб-кухмистера Фельтена, который варит супы ея величеству…
Данила Шумахер тоже науками занимался — по цвету корешков расставлял книги. «Академия игр забавных». «Сатиры галантные и амурные», «Развлечения с тенями». Ровно выстроил он книги. Синенькие — на одну полку.
Красненькие — на другую. Получалось красиво! Всяк Шумахера за то похвалит…
Наивно думать, будто тогдашняя Академия наук приютила под свою сень одни светила разума и благочиния. Увы, читатель, немало здесь собралось и проходимцев от науки — Буксбаумы, Гроссы, Крафты, все в париках, тевтоногрозные, завистливые к чужим успехам, жадные до казенных дровишек. Не раз уже их усмиряли через полицию за кабацкие драки, за дебоши в храмах божиих. Среди этих «ученых» были герои первых на Руси судебных процессов по выселению из квартиры «за невозможностью совместного проживания»…
От нечего делать собирались они в трактире. Устраивали свалку. Бились насмерть мебелью и посудой. Проливали кровь драгоценную… Но иные академики (экие недоумки!) о науках пеклись. Желали они принесть пользу России и народу русскому. О таких дураках Шумахер просто рапортовал в Москву: «Соскучаясь от многих их глупых вопросов, я раскланялся и ушел». Академики тоже разбредались. Отплывали обратно — в Европу…
Леонард Эйлер нагрянул в Адмиралтейство с просьбой: пусть его определят на флот русский.
— Может, на палубах галер я окажу более пользы. Ибо служба на флоте есть дело чести, а где честь — там нет Шумахера!
— По чину в науках, — отвечали ему, — вы давно уже в адмиралах ходите. Каким же рангом определить вас флотски?
— Согласен… мичманом, — скромно сказал великий Эйлер.
— Будьте лейтенантом! При вашей учености, Леонард Павлович, вы скоро станете президентом Адмиралтейств-коллегий…
Русский флот поставил паруса, задвигал веслами и, ощетинясь пушками, грудью встал на защиту ученого… Таковы были перемены. Плохие то были перемены.
А при дворе царицы еще долго спорили:
— Так вот, я и спрашиваю вас: кто же самый умный на Митаве? Пора уже решить этот спор — Кейзерлинг или Корф умнее?
* * *В метельную ночь в деревне, под Москвой, умирал фельдмаршал России — князь Михаил Михайлович Голицын-старший. Пальцы старого воина уже «обирались», но вдруг глаза прояснели:
— Жезл-то мой… жезл? Кому? Кто подымет из рук моих?
Были при нем в час последний братья его — Дмитрий Голицын (министр верховный) да генерал Михаил Голицын-младший. Знавший одни победы, фельдмаршал вовремя ушел от поражения.
Умер питомец громких побед, герой Нотебурга и Нарвы, Гангута и Гренгама; кровь его пролита в Полтаве и под Выборгом; вождь армий победоносных, он донес русские знамена до льдяных пустынь туманной Лапландии… Теперь всего этого не стало, только остались в полках гвардии петровской славные стяги, пробитые пулями и картечью. Душа фельдмаршала погрузилась в потемки вечности.
К выпавшему жезлу протянулись сразу две руки — принца Людвига Гессен-Гомбургского и Миниха, сидевшего в Петербурге.
— Я более принца того достоин, — честно заявлял Миних.
Глава 10
Деревенька Гнилые Мякиши по-над самой речкой. Из сугробов, под берегом, торчат жесткие перья камышей. Присели в снегу избенки мужичьи. Потихоньку светает…
Бабушка Федосья первой встала, огонек вздула. Лучину в зубах зажала и на двор вышла. Крикнул встречь петушок-умница: мол, пора и день начинать, слезай с печи, люд православный! По улице бабы зашастали: у кого огонька не было (затух за ночь), те к соседкам бегали. И на бегу в уголек дули, чтобы не загас. Совали его в печи, соломкой уголек окружали, вспыхнул огонь — сразу повеселели избенки.
Закурились тут Гнилые Мякиши дымом, запахло всяко…
А на горушке — дом господский (такая же изба, только шире, в оконцах не лед, а стекла вставлены). Мирон Аггеевич Тыртов, барин старый, флота мичман отставной, велел из подпола достать полосу мыла. От той полосы кусочек себе отрезал и помылся. Обмылочек же, чтобы дворня не пользовала, в сенцах за матицу спрятал.
На костыль опираясь, прошел Тыртов в горницу. Три вдовые невестки обхаживали свекра, желанья его угадывая.
Того подать или этого?.. Старик в красном углу сидел, а под иконою — кортик. А за иконою тараканы жили, они там шуршат себе и шуршат.
— Хорошо, — сказал Мирон Аггеевич. — У других-то хуже…
Только было огурчик из рассола вынул, как хорошее-то и кувырнулось. Влетел на двор Тыртовых малый соседский — от господ Паниных. Без шапки, босой, ноги вразброс на спине лошадиной:
— Барин! Меня к тебе господа прислали… Коли что есть, так спрячь. Да ревизскую сказку сверь — нет ли лишних? Беда, беда! Недоимки за все годы прошлые берут, жгут и порют!
Старик огурчик дожевал и — к себе. Там у него счеты имелись самодельные: на веревочках были желуди лесные навязаны. И стал Мирон Аггеевич на желудях тех считать — чего казне недоплачено?
Вышел к невесткам потом — с бедой в глазах.
— Водки! — сказал. — Да стол накройте загодя. Может, еще и откупимся? Дети-то, сыночки мои… — заплакал старик. — Одна буря архангельская всех в един час забрала. А меня-то вы с бабами своими оставили… без внуков! О господи…
В полдень вошли в Гнилые Мякиши солдаты. На крылечко дома дворян Тыртовых поднялся офицер:
— По указу государыни нашей матушки…
— Уже то ведомо, — ответил старый мичман, а невестки его раскраснелись. — Извольте к столу, сударь, жаловать…
За столом руку офицера нащупал, положил туда для начала.
— Все едино не поможет, — сказал ему офицер, взятку приняв охотно. — Коли с вас не взыщу, так с меня взыщут… Лучше уж вы, сударь, своей властью, властью помещичьей, с мужиков требуйте. А на то я указ имею строгий… времена ныне не жалостливы!
Мирон Аггеевич, невесток не стыдясь, браниться стал.
— Вор ты, вор! — говорил, губы кусая. — Я ж тебе сей миг остатнее свое сунул. А мужики догола выщипаны допрежь тебя… Что взять, коли нечего дать? Боженька-то — эвон! — показал старик на икону, — боженька все видит…