Николай Кочин - Князь Святослав
Между тем, когда русские послы выходили бесконечными коридорами на улицу, Улеба кто-то тронул за рукав. Он обернулся и обомлел:
- Роксолана!
- Скорей дай мне плащ и выведешь меня отсюда. Настрадалась я тут, милый.
Улеб накинул на неё плащ и вместе с послами она покинула Священные палаты.
Глава 27
В харчевне «Хорошая Еда»
Войска Святослава двигались к Константинополю.
В городе царила паника. Астрологи, гадальщики и ясновидящие всякого рода своими предсказаниями взвинчивали умы и без того страшно взбудораженных жителей столицы. У Золотых ворот каждодневно эпарх города хватал кликуш, трясунов, юродивых и отправлял в застенок, но их количество не уменьшалось. Одна пророчила, что море по прошествии трёх дней выйдет из берегов и всех поглотит. Другая объявляла о своих сновидениях: будто огромная рыба заглотала весь город. Третья корчилась в судорогах и вопила:
- Конец света! Конец света! Бросайте дома, бросайте дела, бегите в пустыню, поститесь и молитесь, чтобы не попасть в лапы сатане.
Толпы, охваченные ужасом, наполняли церкви, падали на колени перед алтарём и рыдали, ожидая конца света. Мольбы и стоны на улицах и площадях сбивали с толку самого эпарха и полицию, в беспамятстве растерянно мятущихся, не зная, кого хватать и утихомиривать. Многие жители столицы сбежали в монастыри, ища там пристанища от всеобщего смятения, делили имущество по бедным, в один день разорялись.
Василевс, неустанно принимавший чиновников и внушавший им твёрдость и необходимость решительных мер, убедился, что даже он не в силах справиться с этим безумием. Предсказатели общей гибели множились. Апокалипсис был у всех на устах. Верблюды, ослы и волы, запряжённые в низкие повозки, запружали улицы, проезды и проходы, отчего паника только усиливалась.
Сумерками в отблесках робких фонарей Лев Диакон мог видеть и пугливых патрикий, нетерпеливо понукающих слуг и рабов, и плачущих детей, брошенных на произвол судьбы, и остервенелых грабителей, использующих в низких целях несчастье народа. Дорогая мебель из пальмового дерева валялась подле домов, никому не нужная. Суетливые слуги выносили из решетчатых дверей скарб в охапках: ларцы из слоновой кости, мантии из цельных кусков, с вытканными рисунками на евангельские темы, сандалии с цветными лентами. Суда и барки под четырёхугольными оранжевыми парусами уходили из города по Золотому Рогу. Бежали, разумеется, самые богатые. На вершинах мачт, снабжённых подножками-балкончиками, стояли матросы и беззаботно и весело махали оставшимся на берегу. Только их, свыкшихся с риском и превратностям судьбы, не трогала эта бестолковая кутерьма. Кричащая тревожная суетливость наполняла каждый уголок города. Брошенные с кладью ослы ревели на дорогах, переходя с места на место под окрики отъезжающих. Переполох выводил из равновесия самых устойчивых, и они бегали вокруг своего скарба, как умалишённые.
Лев Диакон отметил в своих записях, что он испытывал в это время мистический ужас. Большая начитанность в исторической литературе давала пищу его воображению и наводила на печальные аналоги. То им завладевало ощущение, что начинается конец «Второго Рима», и рисовались русские варвары в самых страшных обличьях у ворот столицы; то картины пожаров уводили его ум во времена Нерона, и он начинал искать среди современных правителей аналогов его, и находил их.
Тяжко вздыхая, он забывал предосторожности и натыкался на повозки. С тех пор, как пошла о нём слава по столице, слава учёного историка, заявившего себя в отличных трактатах, он проводил время в наблюдениях над жизнью своих современников, в беседах с друзьями избранного круга столичных интеллектуалов.
Учёный мир риторов целиком был поглощён изучениям «отцов церкви». А у Льва Диакона была тяга к современности, - качество редкое среди историков. Он хотел описывать жизнь, идя по свежим её следам, быть не только свидетелем, но и судьёй современников. Он понимал, что его начитанность, вкус к слову, не утерявшая под его пером живость изложения и в то же время содержательность, меткий и достаточно смелый ум - дают ему право быть историографом грозных событий, которые совершались у него на глазах.
Среда книжных учёных не удовлетворяла его. Он понимал, что бесчисленные компиляции, энциклопедии, словари, антологии и извлечения, над которыми трудился сонм учёных за последнее время, послужат кладовой для ромейской культуры, и он относился к ним с большим уважением, ибо высота филологической работы всегда свидетельствует и о зрелости духовной жизни общества. Но не в кропотливом изучении книг видел он призвание своё.
Он хотел запечетлевать современность, объяснять её, тем более, что события совершались важные, трагичные и сложные. Временами на него нападало такое уныние, что он нуждался в поддержке друзей. И вот на этот раз его потянуло к друзьям, с которыми он общался часто по окончании Магаврской высшей школы.
Тяжесть его усугублялась ещё тем, что Цимисхий, который когда-то считал его своим другом и, принимая запросто, вёл беседы на учёные темы и советовался с ним насчёт книг, упрекая историков за то, что они замалчивают самое главное, выпячивая пустяки, - став василевсом, совершенно забыл его. И не только перестал советоваться с Львом Диаконом и другими учёными, но давно принялся сам учить всех учёных, что и как писать и что замалчивать. Он считал себя уже непогрешимым, привык приказывать, разучился выслушивать и объявил, что он сам будет проверять и исправлять всё написанное историками о времени его царствования. Он даже на глазах у авторов изорвал у одного хрониста те места пергамента, на котором было воздано должное военным заслугам Никифора в борьбе с арабами на Востоке и велел их переадресовать ему - Цимисхию. Он выразился так:
- Есть правда учёных и есть правда потребностей жизни, и последняя правда важнее и полезнее холодных истин сухарей-мудрецов.
- Владыка, - выдавил из себя тот автор и невольно поморщился, ведь несколько месяцев назад сочинитель называл Цимисхия просто «мой друг», - владыка, - глотая слюну и заикаясь произнёс автор, - осмелюсь признаться, что ни в истории Фукидида, ни в трудах Плутарха, ни в трактатах Платона я ничего не читал о двух правдах, соседствующих и не перечащих друг другу.
- Когда ты будешь распоряжаться судьбами народов, чего, надеюсь, не случится (судьба пощадит тебя), - ответил Цимисхий, - ты узнаешь это. Нам нужны от авторов не склады верно описанных фактов, а сочинения-тараны, окружающие вражеские крепости и поднимающие наших подданных на подвиг и интересах трона и империи. Вот это и есть истинная правда.
Узнав об этом, пошёл Лев Диакон к своим друзьям-неудачникам. Их труды стали потаёнными и приобретали поэтому свежесть, истинность и выразительность. Но поэтому же оба они бедствовали, то перебиваясь кое-как в качестве переписчиков книг, то пользуясь поддержкой тайных доброжелателей. Это были: Христофор, автор одного диалога, направленного против патриарха и его окружения (нападки эти были столь удачны, что рукопись бедного переписчика приписывали Лукиану), и поэт, прозванный Геометром, прославившийся пока только в тесном кругу.
В кабачке «Хорошая еда» друзья поджидали Диакона. Они засыпали друг друга вопросами, вспоминали шалости, Магнаврскую школу, чудаковатых риторов и потребовали дешёвого вина.
- Возможно мы последние писатели нашей ромейской державы, - сказал Диакон, - провидению, может быть, угодно погасить факел нашей культуры и на месте этом водворить становище бесчисленных варварских орд. И перед лицом опасности возьмём за правило не погрешить против истины и откровенности хотя бы в тесном кругу друзей. Выпьем за будущее, полное неизвестности и отчаянных тревог. Оплачем тяжкие ошибки наших правителей, которых угодно было богу посадить нам в качестве вершителей наших судеб.
- Столичный плебс умеет не только плакать, - сказал Христофор. - Когда глупость правителей становится преступной, плебс перебивает дворцовые караулы, проникает в помещения, в которых хранятся податные списки и раздирает их в клочья. Так и надо. Я вижу в этом справедливое возмездие тем, до ушей которых не может донестись гнев обиженного, ибо в ушах сытых - вечный колокольный звон, церковные песнопения и льстивые речи подчинённых.
- Ты заходишь далеко в своём гневе к властителям, - ответил Диакон. - Как бы мы ни обижались на них, одна мысль апеллировать к суду черни должна нас устрашать. Чернь всегда чернь, она слепа, бессмысленна, и преступна. Посмотри на её дела: горят дома, в улицах творится беззаконие. Чуя добычу и возможность в этом ужасном хаосе остаться безнаказанной, чернь уже успела обнажить весь яд своих тёмных инстинктов. Избави нас от того дня, когда сила правительства будет для неё казаться нестрашной, мы все потонем в потоках крови. Меч в руках ребёнка может поразить каждого. Присмотритесь! К киевскому князю, говорят, даже неграмотному, не знающему ни одной буквы алфавита, бегут парики. И целые селения на его пути к столице встречают русов, как родных братьев. Кто-то внушил черни преступную мысль, что обязанности её к своему господину, возложенные на неё богом и судьбой, могут быть нарушены. Даже презренные рабы бегут к врагу.
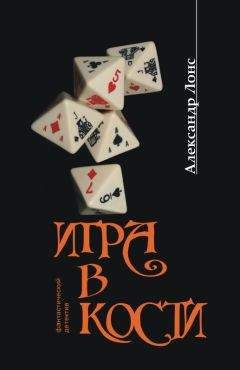
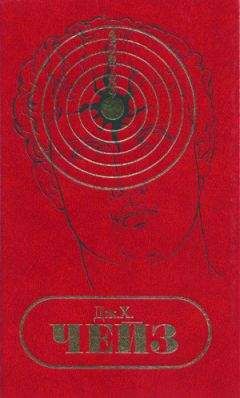
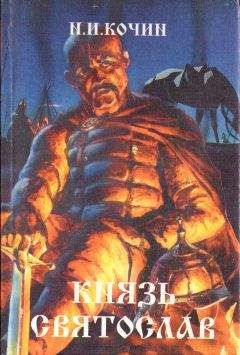

![Алексей Туренко - Крым 2.0 [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)